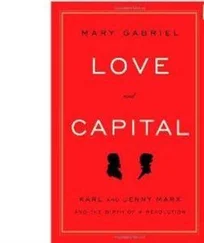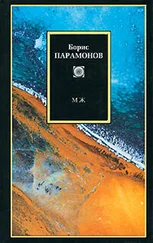Александр Генис: Тут уместно вспомнить, что как раз в наше время Папы перестали быть затворниками. Иоанн-Павел резко изменил сам стиль поведения понтифика. Он ведь даже не на велосипед сел, а на самолет, и полетел по всему свету. Трудно найти в ХХ веке фигуру более современную и своевременную. Помните, как дрожали руки у Ярузельского при виде Папы-соотечественника? Вот когда стало ясно, кто - кого.
Борис Парамонов: Да, но при этом не будем забывать, что Иоанн-Павел в мировоззрении своем был стойким традиционалистом и ни на какие новшества, вроде презервативов, не соглашался. Не говоря об абортах. Он, конечно, был популярен, повысил рейтинг Ватикана. Но в доктринальных вопросах ни Иоанн-Павел, ни ныне уходящий Папа не уступали, говоря по старинке, вратам адовым. Но ведь этот самый ад, которым католицизм видел земной мир, давно уже стал, вспоминая опять же Эренбурга, если не раем, то хотя непроветренным, но уютным чистилищем. Нынешние люди не любят каяться, они привыкли к маленьким житейским удовольствиям. Нужно быть изувером, чтобы осуждать их за это.
Александр Генис: Ну, изуверами нынешнюю католическую иерархию назвать уж никак нельзя. Времена инквизиции давно прошли.
Борис Парамонов: В том-то и дело. Но тогда теряет принципиальный смысл противостояние таким житейским мелочам, вроде этих пресловутых презервативов. Ни то ни сё, ни рыба ни мясо. Идут на компромисс, но при этом имитируют принципиальность, верность догмам. Как по этому поводу в Писании говорится: “ты не горяч и не холоден, а тепел, а посему изблюю тебя из уст Моих”.
И тут я бы хотел вернуться к словам Розанова, его отношению к католицизму. Конечно, он в своих реакциях исходит из Достоевского, из Легенды о великом Инквизиторе – он так и назвал свою книгу о Достоевском. Но ведь в Легенде у Достоевского есть некий скрытый подтекст, и Розанов этот подтекст улавливал. Папство пасет народы жезлом железным, но делает это ради их же блага, отняв свободу, оно дает хлебы. Достоевский знал, что человек, в конце концов, предпочтет свободу любым хлебам и готов одним пинком разрушить любой Хрустальный дворец, лишь бы по своей глупой воле пожить. Но сможет ли человек действительно жить по воле? И Инквизитор говорит Христу: Ты слишком высок для этого мира, люди не могут быть такими, как Ты, а потому уходи, не мешай нам. Вот этот месседж Розанов очень остро воспринял, именно отсюда он исходил в своей критике не христианства вообще и не католицизма, а самого Христа. И тот жезл железный - это ведь не всеобщее, тотальное подавление, а всего лишь принцип культуры, которая, как в наше время стало понятно, строится на репрессии, на подавлении животной природы человека. А человек не может быть счастлив в таком репрессивном строе, не может быть счастлив в культуре, попросту говоря. И Розанов в этом своем следовании намекам – не Фрейда, конечно, а Достоевского – предвосхищает будущее, то есть наше настоящее, то есть нынешнюю установку на построение нерепрессивной культуры. И вот в этом контексте католицизм предстает не столько уже специфически религиозной организацией, сколько принципом культуры как таковой. Он, католицизм, не ссылаясь отнюдь на Фрейда, дает понять, что нерепрессивная культура – это деревянное железо. В Риме были умники почище Фрейда.
Александр Генис: На все это Достоевский говорил: если мне математически докажут, что истина это не Христос, то я останусь с Христом, а не с истиной.
Борис Парамонов: А вот тут Розанов отходит от Достоевского – и от Христа! Христос для него это враг человека, враг жизни. Именно так: Розанов не враг церкви, ни католической, ни тем более православной, он враг самого христианства, этой, как он говорит, религии смерти.
Александр Генис: Хмм, вам не кажется, Борис Михайлович, что мы - вы - радиально отклонились от темы?
Борис Парамонов: Наоборот, только тут мы к ней и подходим по-настоящему. Пойнт в том, что не нужно соглашаться с Розановым. Его заслуга в критике христианства – отрицательная, он очень обострил тему и тем самым способствовал лучшему ее пониманию. А понимать нужно вот что: культура строится не в повседневном бытовании человека, не исчерпывается лишь формами той или иной социальности, но предполагает некий трансцензус, порывание ввысь. Культура не может быть только материальной. Вот вы любите «Игру в бисер» Германа Гессе, а помните такие слова оттуда: когда люди перестанут думать о высоком, они разучатся водить поезда и делать мебель.
Читать дальше