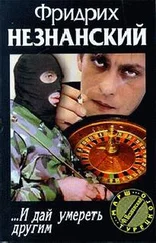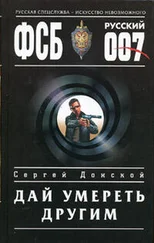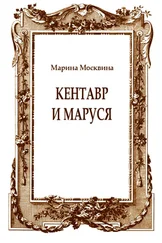Мы пришли к заключению, что, по аналогии с другими фазовыми переходами, такая возможность не исключается. Окончательный же ответ на поставленный вопрос, конечно, мог дать только эксперимент.
Возможность получения металлического метастабильного водорода открывала большой простор для фантазий. Этот необыкновенно легкий конструкционный материал был бы уникальным для физики и, главное, для технического приложения. Он мог быть использован в качестве высококалорийного топлива (например, в ракетах), и, наконец, это был бы высокотемпературный сверхпроводящий материал. Однако все это относилось к области фантастики. Даже обнаружение перехода в металлическое состояние требовало создания в лабораторных условиях, как показывали расчеты, давления порядка нескольких миллионов атмосфер.
После возвращения в Москву я сразу же поделился спекуляциями на тему о метастабильном водороде с А.П. Александровым, тогда директором Курчатовского института, и с академиком-секретарем Отделения общей физики и астрономии JI.A. Арцимовичем. Оба очень заинтересовались, в особенности Арцимович. Дело в том, что в Академии наук существовал Институт физики высоких давлений, который возглавлял Леонид Федорович Верещагин. Институт возник из небольшой лаборатории Верещагина и по существу всегда ею и оставался. Главное достижение института — создание искусственных алмазов, которое очень эксплуатировалось президентом Келдышем в ежегодных отчетах, поскольку было доступно для объяснений высокому начальству как пример важных прикладных работ, ведущихся в Академии.
В Институте высоких давлений был сооружен гигантский пресс. Здание для этого пресса и сам пресс обошлись государству в хорошую копеечку. Однако он уже несколько лет стоял неиспользуемый, и никто не знал, что с ним делать. Когда же я рассказал Арцимовичу о фантастических перспективах металлического водорода, он очень обрадовался и воскликнул: «Наконец-то мы знаем, что делать с бесполезным до сих пор прессом Верещагина!»
С Верещагиным у меня давно установились добрые отношения, и мы с целью пропаганды опубликовали совместную статью о перспективах применения металлического водорода в популярной в то время «Неделе». Возник бум. Проблемой заинтересовались многие научные учреждения, военные и гражданские.
В конце 1970 г. Александров, увлекшись и забыв о том, что о проблеме метастабильного металлического водорода он узнал впервые от меня, на выборах в Академию наук для продвижения своего кандидата, который был моим конкурентом, усиленно рекламировал его заслуги именно в этой области.
Проблема металлического водорода остается до сих пор актуальной для физиков-экспериментаторов. И хотя сам факт перехода водорода в металлическое состояние, по-видимому, можно считать подтвержденным, возможность сохранения его в метастабильном состоянии даже в незначительных количествах в монослоях остается пока недоступной. Что касается практических применений, то их фантастический характер уже мало кого увлекает.
Несколько слов о Леониде Федоровиче Верещагине. Разработанный им метод получения искусственных алмазов не был защищен надлежащим образом патентами, и возникли серьезные проблемы с продвижением его алмазов на западном рынке. Связанные с этим неприятности привели его к преждевременной смерти вскоре после начала водородной эпопеи.
Я «открываю» Черноголовку
Выше я упоминал семинар в январе 1968 г. в Институте Анри Пуанкаре. Хотел бы сказать несколько слов о том, какими путями я попал тогда в Париж на этот семинар.
В середине 60-х годов действовала программа ЮНЕСКО по оказанию научной помощи университетам Индии. Согласно этой программе Советский Союз посылал своих ученых в индийские университеты для чтения лекций. Это была своеобразная натуроплата, освобождающая СССР от части своих взносов в ЮНЕСКО. В ноябре-декабре 1967 г. я провел два месяца в Делийском университете в качестве эксперта ЮНЕСКО, прочитал ряд лекций и посетил другие университеты, везде встречая необыкновенно доброжелательное отношение. Особенно запомнился визит в Бангалор. Там меня очень тепло принял лауреат Нобелевской премии Чандрасекхара Венката Раман, вопреки рассказам о его странностях и нелюдимости, которые я не раз до этого слышал. Я также повидался со Святославом Рерихом и его женой, у нас была очень долгая и доверительная беседа, смысл которой, если сказать кратко, сводился к необходимости делать добро на любом месте и в любых условиях. До меня по аналогичной программе в Индию выезжали В.А. Фок, А.А. Абрикосов, В.П. Силин и др. Командировка в эту страну предусматривала некоторую «сладкую закуску» — поездку в Париж для предоставления отчета в ЮНЕСКО. Так в январе 1968 г. я прямым рейсом из Дели прилетел в Париж.
Читать дальше