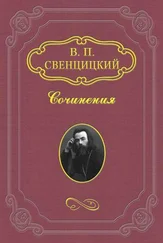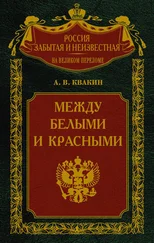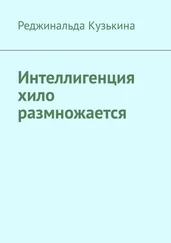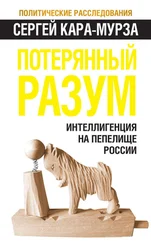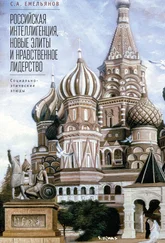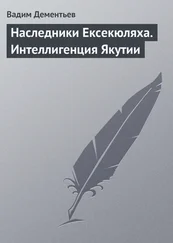Однако эти проявления кризиса культуры остались на европейском Западе локальными: в целом Запад не уступил антирационалистическим и антилиберальным искушениям, потому что многовековая, начавшаяся по меньшей мере с эпохи Возрождения, прививка здравого смысла и философского рационализма оказалась действенным средством в борьбе с культурной энтропией.
Европейский Запад сумел не только ассимилировать dйcadence и радикализм ницшеанского толка, но и использовать их для дальнейшего развития культуры. Европейские гении спонтанности, например С.Дали или П. Пикассо, оказались частью культурной индустрии, своего рода изюминкой в пироге. Их неангажированность не грозила хаосом, напротив, будучи вполне безопасной, она добавляла культуре остроты и ощущения свободы.
Иначе обстояло дело в России, где в силу объективных обстоятельств отсутствовала развитая рационалистическая культура. В отличие от западноевропейской российская культура Серебряного века шла по "канату" рубежа веков без "страховки", без надежного социально-психологического обеспечения. В этих условиях рецепция Ницше, охватившая всю высокую русскую культуру - от эстетов и рафинированных интеллектуалов до социал-демократов и эсеров ("босяки" Горького, "инфернально-романтические" эсеровские боевики и т.д.) послужила спусковым крючком хаоса. Впрочем, конечно же, не единственным. В российских условиях антирационалистичес- кие эскапады культурной элиты резонировали с политическим радикализмом и с "русским бунтом", со стремительно вырывавшимся на поверхность российской истории анархическим инстинктом низов. В конечном счете два анархизма, "верхний" и "нижний", привели к торжеству стихии над какими бы то ни было установлениями, а затем к Революции и новому порядку, в котором для ценностей Серебряного века, таких как творческая свобода или художественная красота, закономерно не нашлось места.
Август 2005 г.
Примечания
1. Полный текст можно прочесть в журнале "Филолог" (2005. № 7), издающемся Пермским педагогическим университетом.
2. О "русском сомнении" в отношении "цивилизации" с ее "духом буржуазности" писал, в частности, Н.А. Бердяев: "Западные люди почти никогда не сомневаются в оправданности цивилизации, это чисто русское сомнение... Русские писатели, наиболее значительные, не верили в прочность цивилизации... Они полны жутких предчувствий надвигающейся катастрофы. Такой религиозной и социальной взволнованности не знает европейская литература, соответствующая цивилизации более установившейся и кристаллизованной, более оформленной, более самодовольной и спокойной, более дифференцированной и распределенной по категориям...". - Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. С. 64.
3. Cм.: Эткинд А. Хлыст. Секты, литература и революция. М., 1998.
4. См. недавно изданную книгу американского историка Лоры Энгельштейн "Скопцы и Царство Небесное: скопческий путь к искуплению" (М., 2002), где собраны ужасающие нормальное сознание свидетельства религиозного радикализма нашего "народного христианства". К сожалению, как отмечали критики, работе недостает аналитичности и культурфилософских обобщений.
5. Бердяев Н.А. Указ. соч. С. 63.
6. См. его статью в "Вехах" - "Интеллигенция и революция".
7. Хоружий С.С. Серебряный век России как культурфилософский феномен // Культурология. Дайджест. ИНИОН. М., 2000. С. 58.
8. См.: Исупов К.Г. Катастрофический историзм Серебряного века // Социальный кризис и социальная катастрофа. Сборник материалов конференции. СПб., 2002 С. 226-29.
9. См.: Гайденко П.П. Владимир Соловьев и философия Серебряного века. М., 2001. Введение и раздел I.
10. Цит. по: Гайденко П.П. Указ. соч. С. 25.
11. Хоружий С.С. Перепутья русской софиологии // О старом и новом. СПб., 2000. С. 165.
12. См.: Там же. С. 167-168.
13. См.: Эткинд А. Указ. соч. // http://hrist-commun.narod.ru/kom-rel.html
14. В качестве одного из примеров назову книгу одного из критиков православия и православной церкви В.В. Розанова "Апокалиптические секты: хлысты и скопцы" (СПб., 1911).
http://liter.perm.ru/ess_rak5.htm
Из книги "Число π"
Вячеслав Раков
Пермский цикл / 1
* * *
Серое пламя напрасного дня.
Место на карте - в осеннем похмелье.
Впору полцарства отдать за коня,
Чтобы не слышать, как мелет емеля.
Чахлая Пермь над озябшей рекой
Косо свое нахлобучила имя.
Кто ей подаст на недолгий покой
И угостит по-приятельски "Примой"?
Кто перебросится с ней в дурака,
Град обреченный по-женски жалея?
Читать дальше