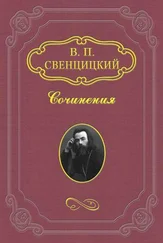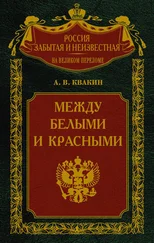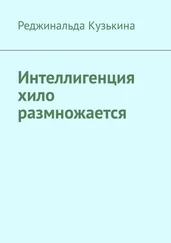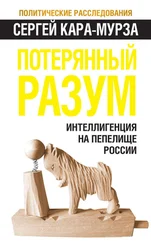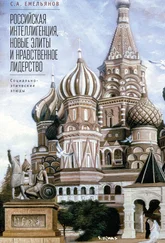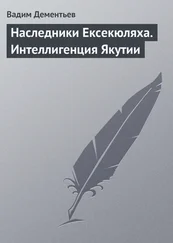Гностический миф о Софии был творчески переосмыслен Владимиром Соловьевым в свете идеи положительного всеединства, однако не настолько, чтобы из него было удалено самое существенное: хилиастические импликации, оказавшиеся необычайно созвучными российской ситуации конца XIX века. Друг и исследователь творчества Соловьева Е.Н. Трубецкой справедливо отмечал: "Учение Соловьева зародилось в насыщенной утопиями духовной атмосфере второй половины прошлого (XIX-го - В.Р) столетия..."(10).
Будучи идейным камертоном, по которому настраивались философия и искусство Серебряного века, "софиология утверждала "идеальные первообразы" и "корни в Боге" за всем на свете, независимо ни от какого трезвения и усилия, - и не диво, что ее постоянные спутники в России были - иллюзии и прекраснодушие, маниловщина, принятие желаемого за действительное"(11).
Софиологическая мысль, развивавшаяся крупнейшими философами Серебряного века, в частности, П.А. Флоренским, С.Н. Булгаковым и - по-своему - Л.П. Карсавиным, оказалась в конечном итоге непродуктивной. Это было осознано в 30-е годы ХХ века - уже за пределами и Серебряного века, и России(12). Философско-религиозное сознание русской культурной диаспоры в лице отца Георгия Флоровского, отца Иоанна Мейендорфа, В.Н. Лосского, и других возвращается в итоге к тому, мимо чего прошел Серебряный век: к святоотеческой традиции, к культурным и историческим возможностям христианства.
Софиология вплеталась в более широкий религиозный контекст предреволюционного времени, который определялся хилиастическими, апокалиптическими, милленаристскими, мистико-теософскими, гностическими и сектантскими настроениями - всем тем, о чем упоминалось выше и что в совокупности составляло альтернативу православной религиозной "середине", традиционной богословской и литургической норме. Радикально-политическая и религиозная формы протеста следовали общей глубинной логике (при всем несходстве их "идейных программ") и отражались одна в другой. Любопытно, что на втором съезде РСДРП в 1903 году Ленин зачитывал доклад "Раскол и сектантство в России", написанный Бонч-Бруевичем(13).
Религиозная ситуация начала века в России типологически весьма сходна с реформационными событиями в Западной Европе 20-30-х годов XVI века. Быть может, имеет смысл говорить о русской Реформации, условия для которой впервые сложились именно в это время. Подобно тому как в начале XVI века католическая церковь в глазах многих религиозно настроенных людей не отвечала требованиям времени, православная церковь в начале ХХ века явно не удовлетворяла религиозные запросы взыскующих веры: и ревнители "духовного христианства" (хлысты, скопцы, духоборы, молокане, сютаевцы, крайние старообрядческие толки), и искавшие Бога интеллигенты упрекали церковь в религиозном формализме, в отсутствии живого чувства веры - и зачастую справедливо. Мы вправе констатировать кризис религиозной жизни, предваряющий Реформацию и сопутствующий ей. Сюда следует добавить то, что пространство активного, индивидуализированного религиозного поиска в начале века заметно расширилось, в частности, за счет представителей образованной среды. Наконец, возросла напряженность этого поиска. Все это характеризует именно реформационную ситуацию.
Однако русская Реформация, если принять только что развитый концепт, не смогла или не успела выйти из "негативной фазы" и войти в берега Нормы, как это было в Европе. В ней возобладал религиозный радикализм и критицизм, вызывавший повышенный интерес у представителей культурной элиты(14) и даже, как известно, в высших придворных кругах и императорской семье. Успех Григория Распутина в этих кругах в данном случае более чем показателен: в "нормальных" обстоятельствах ни на что подобное "старец", разумеется, не мог бы рассчитывать.
Следует добавить, что русская Реформация начала века наложилась на русскую Революцию, питавшуюся теми же интуициями и руководствовавшуюся столь же крайними намерениями. Стоит ли удивляться, что накануне Революции корабль русской государственности (и русской культуры) все более напоминал хлыстовский "корабль".
В пользу того, что надлом российской культуры уже произошел, что чувство середины и меры было ею утрачено или утрачивалось все более, может свидетельствовать также общественная неудача "Вех": их поносили и справа, и слева; они остались "гласом вопиющего в пустыне".
Нечто подобное, опять же, происходило и в Западной Европе, где позитивистско-рационалистический вариант культуры был в целом исчерпан к концу XIX в. и далее следовало его закономерное усложнение, в ряде экстремальных случаев (каков, например, случай Ницше) переходящее в полное отрицание ценностей рациональности.
Читать дальше