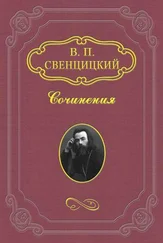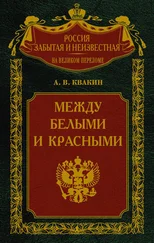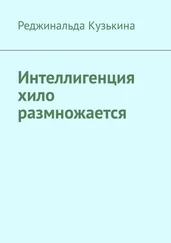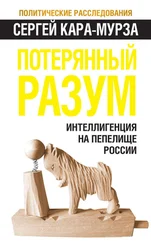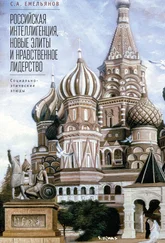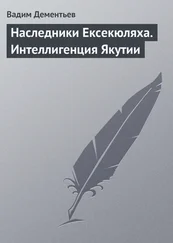Бог Корана (ислама) - это Бог пространства, а не времени. (4) Затем, это Бог, не признающий никакой иной воли, кроме собственной. Ни о каком диалоге между человеком и Богом в библейском смысле применительно к Корану говорить не приходится. Перед нами монолог: Бог в Коране говорит чаще всего от первого лица; в Библии же мы слышим именно разговор Бога с человеком, причем от человека требуют собственных слов, собственного ответа.
Понимание Бога и человека в Коране принципиально иные, нежели в Библии. Самодержавие Аллаха тотально и этой сверхчеловеческой мощи человеку остается лишь благоговейно и с полным повиновением предстоять. Исламская религиозная "педагогика" откровенно авторитарна: Бог лучше знает, что для человека полезно, а что нет, поэтому правоверный мусульманин должен выполнять религиозные предписания, не рассуждая. Повиновение Божественной воле - высшая ценность ислама. Напротив, библейско-христианская "педагогика" немыслима без "переменной" ученической воли человека. "Любовь Бога к человеку так велика, что она не может принуждать, ибо нет любви без уважения... Таков Божественный Промысл, и классический образ педагога покажется весьма слабым каждому, кто почувствовал в Боге просящего подаяния любви нищего, ждущего у дверей души и никогда не дерзающего их взломать." (5) Если равенство христиан перед Богом - это равенство в свободе, то равенство мусульман перед Аллахом - равенство в послушании.
Пожалуй, самое важное в данном случае - то, что в Библии присутствует тайна встречи Бога и человека. По определению Халкидонского вселенского собора (451 г.) Иисус Христос - одновременно совершенный Бог и совершенный человек, две Его природы соединены без слияния (неслиянны и нераздельны). Говоря иначе, жизнь, смерть и воскресение христианского Мессии, описанные в евангелиях, впервые в истории мировой культуры обосновывают стратегию человеческого преображения или, в христианской терминологии, "обожения", стратегию "неслиянного соединения" Бога и человека ("Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду" (Еф. 2,14).
Ничего подобного не знает не только ислам, но и другие великие религии. Идея сочетания божественного и человеческого восточными традициями, насколько мы можем судить, отторгается. Восток отстаивает принцип субординации: Бог это Бог, а человек это человек. Между ними пролегает онтологическая пропасть и это только справедливо. Отсюда понятно, почему в Коране не признается не только божественность Иисуса Христа, но и то, что Бог может претерпевать крестные страдания. Это невозможно, потому что это оскорбляет величие Божие, как оскорбляет Его акт физического рождения и пребывания в человеческом теле со свойственными ему слабостями и ограничениями. Восток - за традиционалистскую, иерархически - простую и понятную трактовку отношений Бога и человека. В восприятии Востока христианство строит эти отношения, во-первых, кощунственно, а во-вторых, недопустимо сложно.
По нашему убеждению, именно в образе Иисуса Христа, возможно, самом глубоком в истории мировой культуры, смысловое и экзистенциальное напряжение Библии достигает кульминации. Этот поистине поразительный и уникальный образ служит залогом уникальности всей христианской традиции.
Христианский религиозно-культурный проект, "свернутый" в Библии и вытекающий из нее, располагает мощным инновационным потенциалом, выделяющим его в ряду других мировых религиозных традиций. Помимо образа Богочеловека, интуиции личности (свободы), историзма, интеллектуальной воли и дисциплины, к инновационным характеристикам христианства, содержащимся в Библии, следует причислить разделение царства Бога и царства кесаря ("...отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу" - Мр. 12,17), то есть разделение духовного и мирского, религиозной и светской сфер.
Благодаря этому разделению в христианстве впервые преодолевается традициональный синкретизм и возникает дифференцированная модель культуры. Живое противоречие между духовным и мирским "градами" (Августин) становится основным "мотором" христианской цивилизации, направляющим ее в сторону исторических, структурных перемен. (6) Оно создает поначалу подспудную творческую напряженность, затем выходящую на "поверхность" истории и культуры и требующую постоянного разрешения в ряде инноваций, реально меняющих облик этой цивилизации.
Напротив, в восточных религиях (индуизме, буддизме, исламе) мы не видим выхода за пределы синкретизма, свойственного традиционным обществам. Так, для ислама, как мы знаем, неразделенность религии и политики до сих пор остается родовой чертой; индуизм и сейчас являет собой синкретичный, предельно ритуализованный мир. Даже конфуцианство, казалось бы отвечающее на вызов времени, делает это только с середины ХХ века и без влияния западных современных обществ его трансформацию трудно объяснить.
Читать дальше