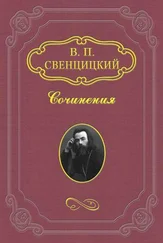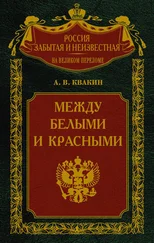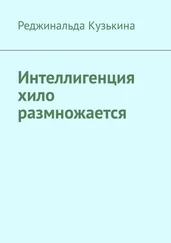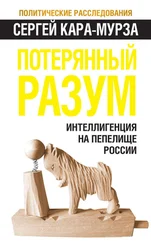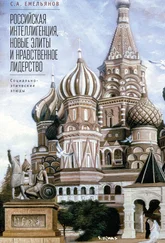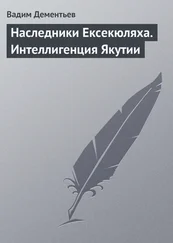Начнем с историзма Библии. Все ее книги нанизаны на стержень повествования, развивающегося вдоль стрелы времени. Перед нами священная история, начинающаяся с Творения, вбирающая в себя принципиально важный рассказ о грехопадении, закономерно приводящий к рассказу о потопе и спасении Ноя и его семьи. История прерывается и начинается как бы заново, но эдемское грехопадение дает о себе знать и на этом отрезке и тогда Бог предпринимает очередную попытку сообщить истории позитивный импульс: Он останавливает взгляд на человеке по имени Аврам и "производит" от него, ставшего уже новым человеком, Авраамом, народ, призванный быть Его народом. Вплоть до Боговоплощения христианская священная история движется в русле истории древнего Израиля, после чего она выходит за пределы Ближнего Востока. Отныне "избранным народом" становятся христиане, заключившие с Богом Новый Завет.
Библейско-христианское видение истории - линейное и определенным образом структурированное. Осевое событие христианской истории - Боговоплощение, событие Христа. На него направлена вся предшествующая священная история и от него же отталкивается дальнейший ход времен. Конечной точкой движения истории и времени становятся Второе Пришествие и Страшный Суд, описанные в Откровении Иоанна Богослова - последней книге христианской Библии.
Библейское время не субстанциально, оно погружено в вечность, обрамлено ею. Но от этого оно не становится чем-то неважным, поскольку именно в нем свершается человеческая драма, драма спасения/гибели. Не только к Петру, но и в известном смысле к каждому христианину обращены слова Иисуса Христа: "что свяжешь на земле, то будет связано на небесах; и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах" (Матф., 16, 19).
Библейский историзм тесно смыкается с библейским учением о человеке, согласно которому Бог наделяет человека свободой воли, свободой выбора и непостижимо считается с любыми следствиями этих свобод. Библейский Бог отказывается спасать человека насильно, Он ждет свободного человеческого отклика на Божественный вызов - достичь обожения. Ради этого и совершилось Боговоплощение: "Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом" (Ириней Лионский, Афанасий Александрийский). По словам русского богослова В.Н. Лосского, христианская антропология сопровождается риском: "Вершина Божественного всемогущества таит в себе как бы бессилие Бога, некий Божественный риск. Личность есть высочайшее творение Божие именно потому, что Бог вкладывает в нее способность любви - следовательно, и отказа. Бог подвергает риску вечной гибели совершеннейшее Свое творение именно для того, чтобы оно стало совершеннейшим. Парадокс этот неустраним: в самом своем величии - в способности стать Богом - человек способен к падению; но без этой способности пасть нет и величия". (1)
Библейско-христианская история, таким образом, неизбежно становится историей диалога Бога и человека, Бога и народа: "Народ в Библии - не пассивный материал, из которого, как из глины, бог лепит единый мир, единство народа не вне него, но внутри. Это единство не спокойно и неподвижно, не пространственно и величественно, но беспокойно и зыбко - это единство представляет собой саму временную ткань жизни...". (2)
В еще большей степени "диалогичны", порой до парадоксальности, отношения между Богом и человеком: достаточно вспомнить книгу Иова, где последний вызывает Бога на суд, и Бог "приходит" и "судится" с Иовом. В итоге, как мы знаем, Иов оправдывается, а его правоверные друзья, ни в чем не погрешившие против буквы иудаизма, подпадают под порицание, впрочем, не сугубое.
Историзм, чувство времени, диалогизм и интуиция свободы (личности) разительно и, по всей вероятности, принципиально отличают Библию и христианскую традицию от иных священных писаний и традиций. Сравним, например, Библию и Коран. Если текст первой темпорально и логически структурирован, то текст Корана, увиденный сквозь библейскую оптику, откровенно "хаотичен", точнее, мифологичен (миф индифферентен к логике и времени). Невозможно сказать, какой принцип определяет последовательность сур и аятов в Коране. Коран напоминает пестрое, мозаичное полотно. Библия же отчасти (или в существенном смысле?) - по ту сторону мифа. Последовательность ее книг довольно жестко обусловлена последовательностью исторических событий и дисциплиной мысли, ее рациональным, а порой откровенно рассудочным строем - в Пятикнижии в особенности. Текст Пятикнижия отмечен "тесной связью с земными, историческими реалиями, с повседневной моральной и религиозной практикой; в нем царствует юридический и прагматический дух, подчиняя себе почти полностью сказочно-романтический элемент..." (3) Справедливости ради стоит сказать, что на фоне Пятикнижия Коран выглядит не только бессвязным, но и гораздо более поэтичным и красочным. Однако этот "реванш" берется в Коране только на "своем", мифологическом поле.
Читать дальше