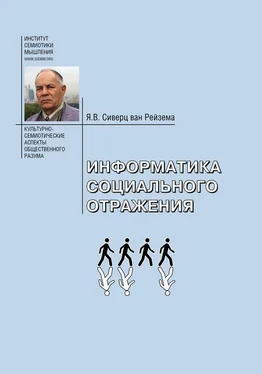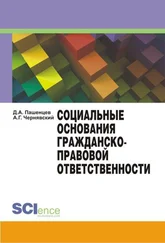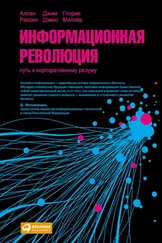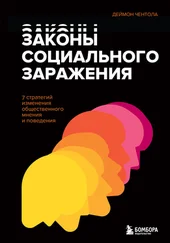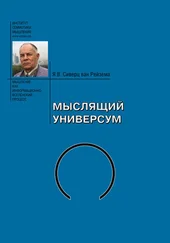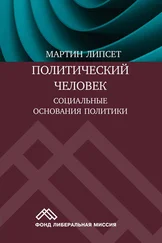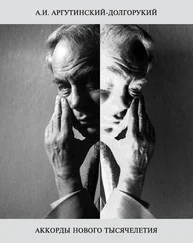Там, где дух произволен, он совершает отлет от своей базы правильности, там кончается научность в ее философском и естественно-прикладном смысле. Плохие материальные, духовные и социальные вещи с точки зрения метода их получения входят лишь в отрицательный осадок духовного опыта. Не только мышление и его социальная практика производят вещи, но и сами вещи (материальные, духовные, социальные) порождают мышление – метафорически, как отражение в материнской информационной плаценте; предметно – как искусственный интеллект.
Различия между научной и философской мыслью лежат не в области метода, но в области разработки содержания отображений внешнего мира. Это – различие общего и особенного. Наука в таком смысле есть углубление специального, которое «рано или поздно», по мере углубления, становится философией.
Дифференциация, разнообразие общего неизбежно влекут специальное. И то, и другое суть производство социальных вещей. Например, философия Р. Луллия, Дж. Бруно, Г.В. Лейбница произвела такие материально-информационные предметы, как счислительные устройства, способные к сложным семантическим формализмам. С другой стороны, современная информационная техника есть результат специализированной деятельности, имеющей своим итогом ввод в философию и практику материальных и программно-гносеологических систем общественного разума.
Различия между философской, научной и художественной мыслью – это знаковые, языковые различия. Это различия в содержании меры. Математические формализмы по контрасту с семантическими формализмами в гораздо меньшей степени допускают «логические паузы». Семантические формализмы, наоборот, оперируют непроявленным знанием, которое содержится в памяти как намек на дополняющий ресурс. Чем основательней исполнено это правило, тем «математичней» оказывается результат семантического отражения.
Мышление – философская, научная и художественная мысль – не имеет критерия правильности за рамками исторического опыта. Все формы мысли, по своему производству относящиеся к культуре, этим и отличаются от мыслей непроработанных, выступающих как произвольное мнение.
В этом смысле многие философские и фундаментальные разработки не могут иметь чисто эмпирического подтверждения даже в течение обозримого ряда поколений – к такой «двусмысленной» области относится вся космогония и космология. Здесь критерии, сопрягающие взгляды в систему, вынужденно допускают доверие (или, как говорит Вернадский, «научную веру») в качестве исторически приемлемого основания.
Именно поэтому «мировые загадки», решаемые до своего эмпирического предела, не перестают существовать, но отодвигаются вглубь вместе с расширяющимся знанием. Эта «научная вера», конечно, не есть религия, так как лишена особого натурфилософского, этического и организационного аппарата. Но она представляет «вещь в себе», которая становится «вещью для нас» в собственно человеческом значении. Разрешение этого противоречия познания в религиях путем переноса в область «небесного человечества» не является оптимальным. Даже в религиях, где действуют не персонифицированные, а надличные категории, такие, как Логос, Дао, Дхарма, происходит перенос историко-космогонического опыта.
Это противоречие, однако, есть диалектика творчества, побуждение к единству культурных форм мышления с целью их сопоставления и критики для получения «положительного остатка». Кантовская антиномия чистого и практического разума преодолевается не чистым познанием разума, а усложнением и разнообразием общественной практики, которая сознает это противоречие и тем самым преодолевает его скептическую и антидиалектическую диктатуру. Противоречия между жизнью и нежизнью, между общественным разумом и его бюрократическим двойником разрешаются расширением сферы жизни и разума, т. е. ноосферой.
Смирение перед этим противоречием или его грубо упрощенное обозначение уничтожают основание общественного разума – культурную мысль. Социальный, философский, социологический аспекты бюрократизма тем и опасны, что такое действие им «по плечу» вследствие юности ноосферы, ее общечеловеческой неопытности, уязвимости перед многочисленными атаками корпоративного своекорыстия и невежества.
Вопрос этот имеет в определенных условиях и собственно «житейскую» плоскость. В бюрократической философии или социологии подвизаться удобнее, чем в естествознании. Но это зависит от конкретной социальной и идеологической обстановки, а не от самих мыслительных предметов. Достаточно вспомнить в этой связи судьбу Дж. Бруно, Галилея, зловещую роль Т. Лысенко.
Читать дальше