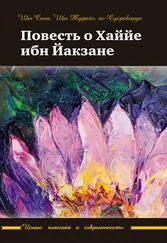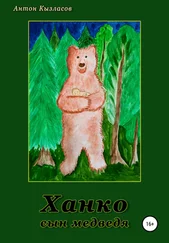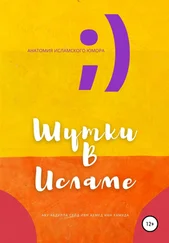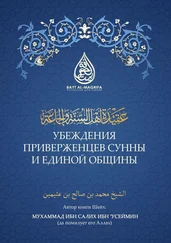Важная, с философской точки зрения, мысль о том,, что бытие, существование предицируется форме и материи неравносильно.
У средневековых арабов, как и у древних греков, слово добродетель означало совершенство, идеал.
До сих пор применительно к этому бытийно необходимому началу использовалось относительное местоимение "что"; если здесь не исправление, внесенное переписчиком, то переход к использованию местоимения "кто" может означать намек на то, что обозначаемое им понятие соответствует понятию бога, как его трактуют теисты.
Герой повести готовится стать на путь суфиев-гностиков.
Поскольку именно так обстоит дело "со всякой лишенной разума скотской породой безразлично, в человеческом та обличье или нет", то данное замечание означает, что взгляды, здесь излагаемые, в принципе ничем не отличаются от трактовки бессмертия и потусторонней жизни, которую выдвигал ал-Фараби и которую Ибн-Туфейль характеризует в начале повести как сомнительную.
Как и Ибн-Сина в одноименном его аллегорическом трактате, ИбнТуфейль здесь воздерживается от утверждения абсолютной неизменности и неуничтожимости небес.
Следовательно, способность к проявлению признаков жизни заложена в самом фундаменте материального мира в четырех стихиях.
Центр Вселенной, по тогдашним представлениям, совпадает с центром земли; огонь же из всех стихий, образующих концентрические сферы, наиболее удален от этого центра и находится в непосредственной близости к сфере Луны.
Так Хайй ибн-Якзан приходит к представлению о существовании вида (по современной терминологии – рода) человеческого, коего единственным представителем он пока считает себя.
Все эти действия, направленные на сохранение природной среды, – аналоги высоконравственной жизни человека, общающегося с себе подобными существами, каковым Хайй, живущий на острове один, быть, конечно, не мог. Важно, однако, то, что, поступая так, наш Робинзон вовсе не рассчитывал на потусторонние воздаяния. Но при аллегорическом толковании религиозных догм, касающихся потусторонней жизни, их можно без труда согласовать и с поведением Хайя, поскольку цель его жизни отныне – познание Истинного Бытия, то есть бога, а следовательно, и достижение вечного блаженства.
Три способа круговращения представляют собой последовательные этапы концентрации движений героя вокруг центра, которым и становится наконец его физическое Я. Чрезвычайно смелый намек содержится в описании второго способа круговращения – вокруг дома и камня: во времена паломничества в Мекку мусульмане совершают ритуальный обход Дома Аллаха – храма Каабы с хранящимся там Черным Камнем.
Речь идет о джихаде души, который, по представлениям суфиев, заключается в противоборстве человека собственным низменным страстям.
Учение об аффирмативных (положительных) и негативных атрибутах бога принадлежит Ибн-Сине.
Богомыслие (точнее, поминание имени Аллаха, чего Хайй, разумеется осуществить не мог из-за отсутствия у него человеческой речи), как и кружение на месте (характерное для основанного ас-Сухраварди "братства танцующих дервишей"), было одним из методов, использовавшихся суфиями для приведения себя в экстатическое состояние.
Поскольку используемое здесь арабское слово, обозначающее речь, служит также для передачи понятия спекулятивной теологии ислама (калама), то эта фраза может быть истолкована и в том смысле, что Хайй Ибн-Якзан познал бога, нисколько не нуждаясь в теологах и теологии.
Слова, приписываемые мусульманской традицией Мухаммеду.
Стоянка, согласно принятой у суфиев терминологии, – это длительное состояние мистического созерцания.
Исчезновение – еще один суфийский термин, обозначающий высшую степень самоотдачи созерцанию Чистого Бытия.
Этот образ, символизирующий человека, который неспособен постичь самоочевидную истину, восходит к Аристотелю ("Метафизика", 993), а начиная с ал-Кинди использовался и в философской литературе мусульманского Востока.
Ср.: Коран, 30:6 (7). Не исключено, что распространение в Андалусии именно таких взглядов, не поднимающихся выше уровня обыденного "здравого смысла", имеет в виду Ибн-Туфейль, говоря о воззрениях, заинтересовавших в его стране некоторых любителей философии (см. коммент. к с. 90).
Читать дальше

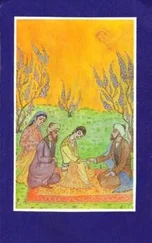
![Оливера Николова - Этюды об ибн Пайко [Тройной роман]](/books/29031/olivera-nikolova-etyudy-ob-ibn-pajko-trojnoj-roman-thumb.webp)