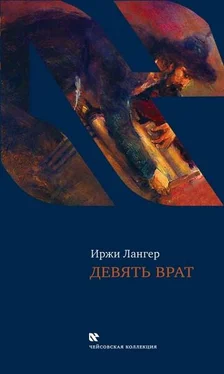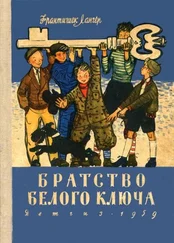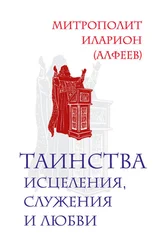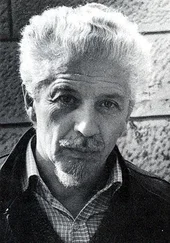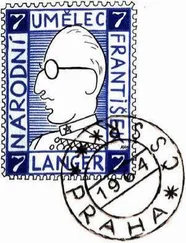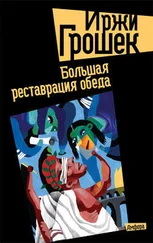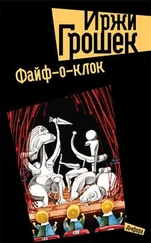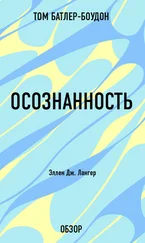После 1930 года брат начал издавать свои хасидские рассказы и легенды. Они выходили раз в год в «Еврейском календаре». Написанные по-чешски, они уже не представляли собой образцов научной каббалистической литературы, предназначенной для горстки специалистов — их он едва ли мог найти в Чехии. Эти рассказы были рассчитаны на простых читателей, главным образом чехов, и рассказывали им о евреях нечто совершенно отличное от антисемитских текстов, которые тайно переправляли через чехословацкую границу нацисты. Рассказы Иржи шли от самого сердца, никоим образом не от разума, и корнями уходили в его личные переживания, отношения, любовь. Чтобы выразить все это, брат должен был использовать все поэтические возможности языка — но какого? Естественно, своего родного, чешского.
Шел 1935 год, когда он принес мне объемистую пачку исписанных листов, — на первом из них уже стояло заглавие: «Девять врат». Его очерки, сказал он, выросли в целую книгу, но, возможно, его стиль далек от совершенства, и потому он просит меня как опытного писателя подправить в рукописи стилистические неловкости.
Однако стоило мне начать читать, как я и думать забыл о всяком стиле. Меня настолько заворожили события, сюжеты, образы, сама манера повествования, настолько захватила их экзотика, фантастичность, оригинальность, что я читал и читал, не в силах оторваться. Мистика изображаемого не была туманной или недоступной для понимания; чудеса и диковины, которые пронизывали все содержание, не сопровождались патетикой и не ошеломляли. Напротив, вполне соразмерные с человеческими нормами, они представлялись милыми и простыми.
Легенды рассказывали о святых, замечательных раввинах, способных творить всяческие чудеса. Эти святые, находясь с Господом в чрезвычайно близких отношениях, позволяют себе быть с Ним накоротке, чуть ли не дерзить, и оттого иное чудо, совершаемое Богом, выглядит всего лишь как оказанное соседу одолжение. Рассказы повествуют о хасидах, об этих людишках, об этих особенных Божьих детях, которые благодаря своей безграничной набожности обладают редкими привилегиями — они могут через своих святых попросить у благосклонных Небес всего, что им необходимо для жизни. Однако их жизнь такая скромная-прескромная и их просьбы так соразмерны с этой жизнью, что они могли бы получить эти испрошенные малости и без всякого чуда — настолько все это земное и по-человечески прекрасное.
Лишь вдоволь насладившись содержанием книги, я стал думать — как и требовал от меня брат — о ее стилистике. Неужели у Иржи могли быть сомнения на этот счет? Ведь его легенды — я почувствовал это в каждой строчке — производят столь чарующее впечатление именно потому, что рассказаны в легендарно-чарующем стиле. Малейшее изменение тональности, ритма, легкости и простоты, как и определенной неловкости в отборе и порядке слов, — и их очарование в значительной мере окажется утраченным. Рассказчик связывает наивную изысканность — основу всех еврейских анекдотов — с изысканной простотой, какой бывают одарены самые выдающиеся еврейские художники, такие, например, как Гейне или Шагал. Автор неизменно прядет свое повествование из двух нитей. Одна из них — улыбчивый скепсис взрослого человека, рассказывающего детям о невероятных чудесах, творимых сказочными раввинами. Другая, параллельная, нить — слушатель, который с детской доверчивостью внимает каждому услышанному слову. Автор рассказывает обо всем естественно, живо, от себя, вы, можно сказать, почти видите его мимику и жестикуляцию, улыбки и озорные подмигивания. Слова, которые он произносит, из его уст идут прямо к вашему уху, со всеми своими паузами, модуляциями, то пиано, то форте, словно перед вами сидит сказочник на каком-то восточном базаре. Более того, композиция всей книги полностью соответствует ее содержанию, а наивные стишки с ассонансными рифмами, предваряющие каждый рассказ, соединяют их словно своего рода музыкальные интермеццо. Так книга, принимая форму единого целого, создает атмосферу своеобразной хасидской «Тысячи и одной ночи».
Итак, никаких поправок. Рукопись нуждалась лишь в одном: в достойном издателе, а это, конечно, потребовало определенных усилий. Она вышла только в 1937 году, когда Европу уже стали сотрясать волнения, порожденные германским фашизмом, и была принята чешскими читателями с живым интересом. Конечно, в иные времена своеобразная тема и высокое повествовательное искусство обеспечили бы ей дальнейшие издания и переводы на другие языки, но в ту пору, в связи с событиями, которые близились и в конце концов грянули, смогло появиться лишь одно, первое, издание. Через полтора года, во время нацистской оккупации, она уже числилась среди произведений «дегенеративного искусства» и ее тираж был полностью уничтожен. Сохранилось лишь небольшое число экземпляров, надежно спрятанных верными читателями в обстановке постоянных домашних обысков.
Читать дальше