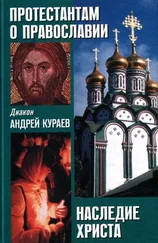Наконец, сложность церковной музыки также способна затруднять восприятие смысла богослужения. У современного человека нет той певческой культуры, что была у русского человека прошлого века, он не умеет слышать слова за музыкой. Поэтому примитивные баптистские песенки, которые человек может подхватить, больше вовлекают его в соборную молитву, чем концерты Бортнянского или Веделя.
Поэтому так оживляется храм, когда диакон призывает всех собравшихся вместе пропеть на простой мотив “Богородице Дево”, “Сподоби, Господи” или “Отче наш”.
Неужели католикам легко было отказываться от мессы Моцарта? Но пришлось, чтобы люди могли участвовать в богослужении, ввести простые распевы. Обиходные распевы Русской Церкви даже не нужно менять — и так значительную часть службы может петь весь храм. Но между московскими приходами разворачивается соревнование совершенно обратного свойства: у какого батюшки больше поется сложнейшим знаменным распевом (считается, что это показатель древлего благочестия и молитвенности, а на то обстоятельство, что при пении знаменным распевом разобрать смысл текста еще сложнее, чем при исполнении Бортнянского, внимания не обращается). Вот и разгадывает человек, зашедший в храм, два ребуса сразу: из очень сложной и растянутой мелодии ему, обычному горожанину, не обладающему никакой песенной культурой, надо сначала выделить текст, а затем еще попробовать с ходу перевести его с церковнославянского на русский. И лишь после этого, уже поняв, о чем речь” повторить понятое про себя, молитвенно обращаясь к Богу или к тому святому, о котором идет речь.
Я видел старых католических священников, которые с болью и тоской говорили о том, что они мечтали бы совершать мессу на латыни, как в дни их юности, но ради людей, ради прихожан они отказывают себе в этой радости. Ницше когда-то обвинял христианство в антиаристократизме. Если бы он знал современное российское православие, он взял бы свои слова обратно. Чем сложнее и непонятнее для восприятия современным человеком храмовое действо, чем дальше отстоит проповедь от реального мира собравшихся в храме людей, чем ригористичнее позиция духовника и проповедника — тем более православным считается такой приход.
Характерное искушение православных проповедников — застревать в плотных слоях православной традиции и так и не доходить до Евангелия. Так много пересказывается житий святых и рассказывается о чудотворных иконах, что я думаю, что не солгала мне одна пожилая женщина, перешедшая к баптистам, сказав, что она несколько лет ходила в православный храм, но только баптисты ей сказали, что Христос умер, оказывается, ради спасения людей, в том числе и ее самой… Действительно, нетрудно найти храм, в котором проповедь день за днем и год за годом вертится вокруг тезиса: сегодня наша святая Православная Церковь празднует память такого-то святого, который был свят тем, что был верен святой Православной Церкви, что научает и нас хранить верность святой Православной Церкви и жить в послушании и смирении, не забывая жертвовать на нужды нашего святого храма. Человек погружается в изучение огромного мира православной аскетики и истории, Евангелие же читает и цитирует все реже и реже…
Многие поминают преп. Сергия и пишут о нем чаще, чем о Христе, а в подвиге преп. Сергия помнят лишь “батальный эпизод” и не замечают его молитвы и любви. И тот факт, что средний россиянин сегодня жизнь преп. Сергия знает лучше, чем жизнь Иисуса, не есть ли всего лишь яркий пример все того же искушения богатством церковной истории? Не в России раздались слова Лютера, раздраженного отсутствием евангельской проповеди у христианских священников, но зато и по сей день они приложимы к России: “Раньше проповеди посвящались главным образом таким несерьезным и ненужным делам, как перебиранию четок, почитанию святых, монашеской жизни, паломничествам, правилам о постах, церковным праздникам, братствам и т. д…” (“Аугсбургское вероисповедание”. Эрланген. 1988, стр. 63). В отличие от Лютера я скажу, что это вещи нужные и разговор о них нужен, но лишь после того, как проповедано Евангелие.
“И сие надлежит делать, и того не оставлять”. Но есть тут одно обстоятельство, которое дает огромное преимущество среднему протестантскому проповеднику перед средним проповедником православным. Случается, что профессиональному проповеднику становится скучен предмет его проповеди (это не неизбежно в личной судьбе, но “статистически” происходит в общей эволюции религиозной общины). И тогда как этот проповедник (бывший таким ранее по зову сердца, а теперь — лишь по своему статусу в общине) будет отвечать на искренние вопрошания и крики помощи, обращенные к нему людьми, которые требуют, чтобы Евангелие сказало им об их, и именно их, жизни, об их, и именно их, ситуации в мире сем? Очевидно, такой институциональный проповедник будет прибегать к повторению неких штампов, некоторых проповедническо-успокоительных формул, оставшихся в его памяти и разуме от былого переживания веры. И вот здесь, мне кажется, явное преимущество практики протестантизма: православный священник скорее скажет: “Ты молись и кайся, а Божия Матерь тебе поможет”,— а баптистский наставник скажет тоже штамп, нечто вроде: “Господь тебя любит, ты главное помни, что Он умер за тебя и Он тебя не оставит”. Но вот по человеческой и даже богословской глубине — какой же из этих штампов подлиннее, живее и действеннее?
Читать дальше