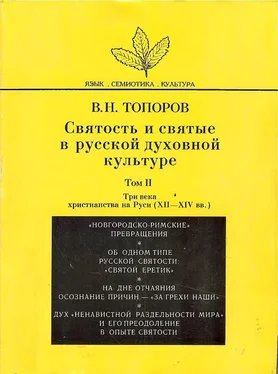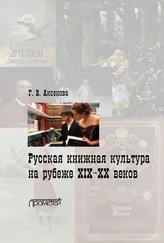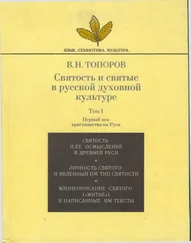Отходя от этой точки равновесия русской жизни, от этой точки взаимоопоры различных сил русской жизни, начинаешь терять равновесие, и гармоническому развитию личности начинает грозить специализация и техничность. Я почти подхожу к тому слову о местности, пронизанной духовной энергиейПреподобного Сергия, к тому слову, которому пока еще все никак не удается найти себе выражение. Это слово — античность . Вжившийся в это сердце России, единственной законной наследницы Византии, а через посредство ее, но также и непосредственно — Древней Эллады, вжившийся в это сердце, говорю, здесь, в Лавре, неутомимо пронизывается мыслью о перекликах, в самых сокровенных недрах культуры, того, что он видит перед собою, с эллинской античностью. Не о внешнем, а потому поверхностно–случайном, подражании античности идет речь, даже не об исторических воздействиях, впрочем, бесспорных и многочисленных, а о самόм духе культуры, о том веянии музыки ее, которое уподобить можно сходству родового склада, включительно иногда до мельчайших своеобразностей и до интонации и тембра голосов, которое может быть у членов фамилии и при отсутствии поражающего внешнего сходства. И если вся Русь, в метафизической форме своей, сродна эллинству, то духовный родоначальникМосковской Руси воплотил в себе эту эллинскую гармониюсовершенной, действительно совершенной, личности с такой степенью художественной проработки линий духовного характера Руси, что сам в отношении к Лавре или, точнее, всей культурной области, им насквозь пронизанной, — есть — возвращаюсь к прежнему сравнению — портрет портрета, чистейшее выражение той духовной сущности, которая сквозит многообразно во всех сторонах Лавры как целого
(Флоренский 1994, 161–162).
И еще одно свидетельство, отсылающее к провиденциальности связи с «греческим» началом, к идее духовного и художественного преемства:
В своей живописи греческийнарод, предчувствуя неминуемую гибель своего государства, как в лебединой песне, восславил бессмертие греческого гения. В религиозном чувстве греческого народа предчувствие гибели сказалось отходом от жизни и усиленным созерцанием нездешнего… Рублев, кажется, схватил все это. […] Рублев достиг при этом удивительного синтеза: он дал не только примирение, он дал простой и задушевный русский облик всем элементам новой византийской культуры. Она оставалась религиозной культурой по преимуществу и вызвала на Руси новый период религиозного творчества
(Антол. 1981, 62: В. Н. Щепкин — «Душа русского народа в его искусстве», 1920, рукопись).
О рублевских краскахнемало писалось, и внимание, между прочим, привлекалось к цветам в их символическом применении, к византийскому наследию в их выборе и русском опыте их освоения — и до Рублева и после него и, конечно, в его собственном творчестве.
Если в отношении к краске и линии у русского иконописца и был некоторый «сенсуализм», то сенсуализм совершенно отличный от современного: невинный, мягкий и простодушный, почти бессознательный в момент переноса из жизни в искусство… Что в нем было земного — просветлялось, вступая в религию, но не утрачивало своего деликатного оттенка. Золотой цвет солнца, свет неба, риза звездной ночи и пурпур заката давно вошли в византийское искусство […] Мы назовем теперь некоторые интимные и редкие элементы, впервые усвоенные русской иконописью в эпоху Рублева. Теперь живописец схватывал все краски цветущего луга и созревающей нивы: цвет куколя и цвет василька, цветущего льна и цветущей гречи — это небесные ризы; все переходы красных, желтых, зеленых и голубых оттенков догоревшей зари — это краски семи небесных сфер. Другие бесчисленные впечатления еще должны быть открыты сознанием, которого не вносили в эту сторону своего мастерства сами иконописцы…
(Антол. 1981, 61: В. Н. Щепкин).
И еще о той тяге к небу или о сведе́нии неба на землю, свидетельствующих об ожидаемом вот–вот начале Царства Божия на земле, о всеобщем просветлении, мире и согласии, соединяющем крайности (лев и агнец), о символике цвета, о божественном цвете иконописи «ассисте», «эфирной, воздушной паутинке тонких золотых лучей, исходящих от Божества и блистанием своим озаряющих все окружающее», об «эфирной легкости этих лучей, имеющих вид живого, горящего и как бы движущегося неба». Б. Н. Трубецкой в своей работе «Два мира в древнерусской иконописи» (1916) писал:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу