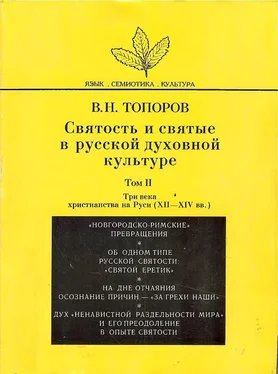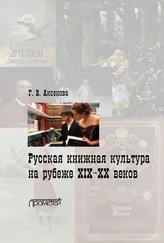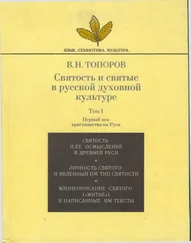С характерным, но многозначащим дополнением — не токмо единемъ христианомъ, приходящим тис верою, но и во иноверныхяви тобе Богъ своего угодника и подасть ти творити предивнаа чюдеса .
«Попытки приурочить памятник ко времени, более близкому к 1380 г., представляются вполне целесообразными. Они отвечают тому явно эмоциональному характеру, какой имеет Слово Софония с начала до конца. В связи с этим есть основания считать, что Слово Софония появилось сразу же после Куликовской битвы, может быть, в том же 1380 г. или в следующем» (Ржига 1947, 397).
Вообще, автор «Задонщины» чуток к теме происхождения, «землячества». Так, например, фраза Звонят колокола колоколы вечныа в великом Новегороде, стоят мужи новгородцы у святой Софеи […], как и особенности списков «Задонщины», свидетельствующие о связи с псковской и новгородской рукописными традициями (ср. Седельников 1930, 524–526 и др.), возможно, говорят об особых связях автора с Северо–Западной Русью. В частности, высказывалось предположение, что он мог быть дружинником псковского князя Константина Димитриевича, младшего сына великого князя Димитрия Ивановича. Кажется, не обращалось должного внимания на связь «брянской» темы в «Задонщине» (а Брянск еще при Альгирдасе вошел в состав Литовского государства) с литовскойтемой «Задонщины» в связи с сыновьями Альгирдаса:
[…] И молвяше Ондрей Олгердович брату своему Дмитрию: «Сама есма себе два брата, сынове Олгордовы, а внукы есмя Едимантовы, а правнуки есми Сколомендовы. Изберем братью милую пановей удалыи Литвы, храбрых удальцев, и сами сядем на борзыя своя комони, посмотрим быстрого Дону , […] испытаем мечев своих литовъскых о шеломы татарскыя, сулиц немецъкых о байданы бесерменьскыя ».
И рече ему Дмитрей: «Брате Ондрей, не пощадим живота своего за землю за Рускую и за веру крестьянскую и за обиду великого князя Дмитриа Ивановича […] Седлай, брате Ондрей, свои борзыи комони, а мои готовы […] Выедем, брате, на чистое поле, посмотрим своих полъков ».
Очень вероятно, что «брянская» тема многое объясняет и в позиции автора по отношению к описываемому событию, и кое–что объясняет в самом тексте «Задонщины». Подчеркнутость «литовского» слоя в повести позволяет, кажется, несколько иначе трактовать практическое отсутствие в ней «рязанской» темы (единственное ее упоминание дается в сугубо не «политическом» плане: В то время по Резанской землиоколо Дону ни ратаи, ни пастуси не кличут, но толко часто вороне грають, зогзици кокують трупу ради человечьскаго .
Положительная оценка участия «литовских» князей в событиях 1380 года в «Задонщине» резко противостоит отрицательной оценке литовских участников этих же событий в «Летописной повести о побоище на Дону» ( Такоже с Мамаем вкупе в единомыслии, в единой думе и литовьский Ягайлос всею силою литовmcкою и лятскою […] Но хотя человеколюбивый Бог спасти и свободити род крестьянский […] от работы измаилтеския, от поганаго Мамаа и от сонма нечестиваго Ягайлаи от велеречиваго и худаго Олга рязаньскаго […]; — И нача посылати к Литве, к поганому Ягайлу […] и т. п. при положительной оценке Ольгердовичей) и в «Сказании о Мамаевом побоище» ( Князь же Ольгорд литовский, слышав то, вельми рад бысть за велику похвалу другу своему князю Ольгу резанскому. И посылаеть скоро посла к царю Мамаю с великыми дары и с многою тешью царьскою. А пишеть свои грамоты сице: «Въсточному великому царю Мамаю, князь и Вольгорд Литовский, присяжник твой, много тя молить! […] и т. п.).
Летописная «Повесть о Куликовской битве» возникла, видимо, в конце XIV века. Считается, что в ее основе лежал краткий рассказ «О побоище иже на Дону», отразившийся в «Летописце Рогожском» и «Симеоновской летописи» (Слов. книжн. Др. Руси 1989, 244). Наиболее полные тексты «Повести» — в «Софийской I» и «Новгородской IV» летописях, а также в «Новгородской V» и «Новгородской Карамзинской». Есть мнение, согласно которому «Повесть» была создана в конце 40–х годов XV века (Салмина 1966, 344–384; Салмина 1974, 98–124; Салмина 1977, 3–39; Слов. книжн. Др. Руси 1989, 245). Тем не менее окончательной эту датировку считать нельзя. Более того, альтернативная точка зрения относит создание «Повести» к существенно более позднему времени.
Нужно отметить, что имени Сергия нет и в «Слове о житии великого князя Димитрия Ивановича», в котором уделено место (правда, весьма скромное) и битве с Мамаем.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу