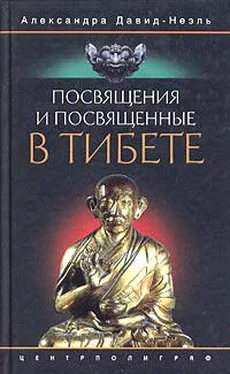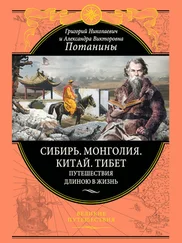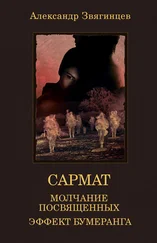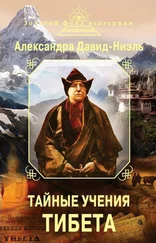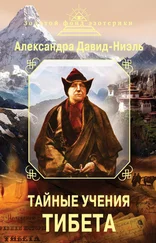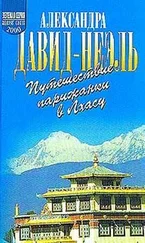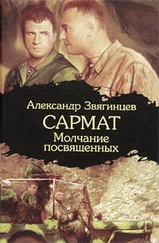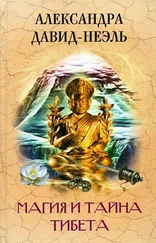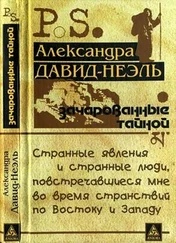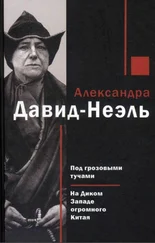И тем не менее, мораль в каком бы то ни было аспекте, даже когда она понимается как мудрость, принадлежит к тому низшему уровню «Мистического Пути», на котором деятельность по-прежнему рассматривается как выполнение определенных физических или ментальных действий.
Формально этот этап называется «чой-кьи той– па» [123], то есть «религиозная или благая деятельность».
В соответствии с тем, насколько ученик преуспевает в интроспекции, он все более ясно понимает, насколько тщетны усилия уклониться от естественного сцепления причин и следствий, основываясь на близоруком восприятии и столь же близоруких чувствах.
Следующий этап называется «той-тал» [124], то есть « отказ от деятельности». Мистик понимает, что в действительности важно не действовать, а быть.
Следующее сравнение позволит лучше, чем любого рода объяснение, понять то, что имеют в виду учителя мистицизма.
«Солнце, – сказал мне один из них, – не работает. Оно не думает: «Озарю-ка я своими лучами вон того человека, чтобы согреть его; пошлю-ка их вон на то поле, чтобы вырос ячмень; и вон на ту страну, чтобы ее жители могли насладиться светом». Но поскольку оно – солнце, по природе своей дающее тепло и свет, оно освещает, согревает и дарует жизнь всему сущему».
Точно так же и чангчуб-семпа, сущность которого – проницательность, мудрость и доброта. Поскольку он состоит из этой чудесной субстанции, то лучи его благотворной энергии сияют на всех живых существ – от великих богов до самых грешных обитателей ада.
Тем не менее ученику, идущему по «Мистическому Пути», не следует жаждать столь высокой роли.
Несмотря на то что махаяна считает самыми благородными те религиозные устремления, которые выражены в обете стать могущественным чангчуб– семпой, способным действовать на благо всех живых существ, это желание одобряется только на низших этапах «Мистического Пути». В дальнейшем оно полностью отвергается, поскольку имеет оттенок привязанности к личной жизни с верой в «я».
В том случае, если ученик, достигший более высоких уровней посвящения, вообще дает этот обет, он формулирует его в безличной форме: «Да придет чангчуб-семпа или Будда ради блага всех существ!», а вовсе не «Да стану я чангчуб-семпой!».
Единственным важным условием достижения более высоких уровней посвящения является полное отрицание «я» в любом его аспекте. Как говорится: «Нирвана не для тех, кто хочет ее, ибо нирвана как раз и состоит в полном отсутствии желания».
На этом «Путь», конечно, не кончается. Однако предполагается, что теперь налджорпа достиг мистических вершин. Правила, практика и ритуалы – все это остается позади. Сохраняется только медитация, которую учителя сравнивают со свободным парением над вершинами в восхитительно чистом и свежем воздухе.
На этих безграничных духовных просторах, бледным отражением которых выглядят очаровательные безлюдные просторы Тибета, теряются всякие следы. Мы должны отказаться от следования по стопам полностью освобожденного мистика, который узрел абсолютную свободу нирваны. «Как след птицы в воздухе, трудно проследить его путь» [125].
И если один из них обратится к нам, согласившись открыть тайну своих созерцаний, его скоро прервет невозможность выразить словами свои мистические переживания. Именно на них намекает классическая фраза из «Праджняпарамита-сутры»: «Я бы рассказал, но… мне не хватает слов».
Для того чтобы читатели получили некоторое представление о наставлениях, которые сообщают своим ученикам тибетские учителя, я приведу здесь некоторое количество афористических высказываний, приписываемых известному ламе Дагпо Лхадже, третьему в линии преемственности кагьюпа, самой важной из школ, претендующих на обладание традиционным устным учением. Тибетское слово «кагьюд» означает «линия наставлений».
Родоначальником этой линии является философ Тилопа – своего рода индийский Диоген. Его ученик Нарота (Х век), который учился в знаменитом буддийском университете в Наланде, имел среди своих учеников и тибетца Марпу. Последний внес в свою страну учение Тилопы, которое он получил через Нароту. Марпа передал учение непосредственно своему ученику, поэту-отшельнику Миларепе (XI век), который, в свою очередь, сообщил его двум самым знаменитым своим ученикам – Дагпо Лхадже и Речунгпе [126].
Последний, в подражание своему наставнику Миларепе, вел жизнь отшельника, а Дагпо Лхадже продолжил линию духовных сыновей Тилопы, существующую до сих пор. В наше время она представлена главами нескольких ветвей, основанных учениками Дагпо Лхадже, ведущим из которых является великий лама школы карма-кагью, живший в монастыре Толунг-Черпуг, который находится в двух днях ходьбы от Лхасы.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу