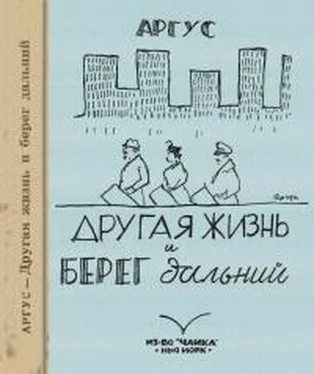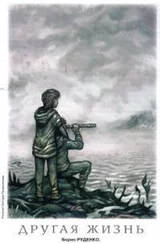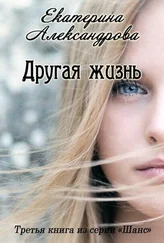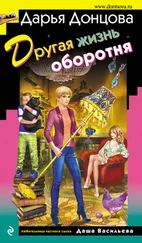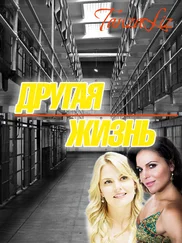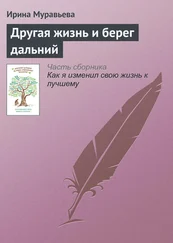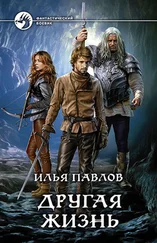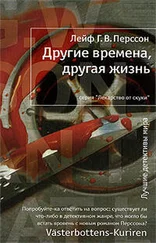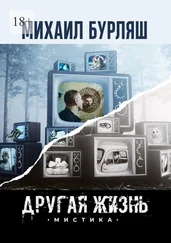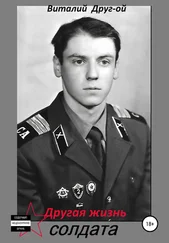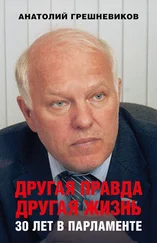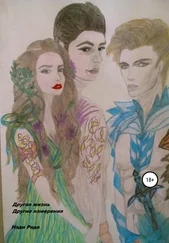Петербург — мужского рода, а Москва — женского рода, но иначе оно и не могло быть. И недаром Рига — женского рода. Как будто люди, город построившие, уже тогда предчувствовали и предвидели, в какую красавицу она превратится, когда подрастет.
Рига мне всегда представлялась миловидной девушкой со вздернутым носиком, в старинном пестром платье с кружевными узорами. Как рижские девушки, соперничавшие с самой Ригой в красоте.
В Риге я уже прожил несколько лет, когда окольными путями получил из Новгорода сообщение, что мой отец расстрелян. Излишне рассказывать о том, как меня это сообщение потрясло. Я отправил в Новгород письма некоторым товарищам по школе и знакомым с просьбой сообщить мне все, что им известно о последних днях отца. Никакого ответа, однако, я не получил, и это только укрепило мою веру в достоверность сведений: молчат, значит не хотят меня расстраивать.
В сущности, расстрел отца не должен был меня удивить. Это казалось непредотвратимо, когда мы с матерью покидали Новгород. Уехали мы в «максимке» вначале во Псков, а оттуда через разные гиблые места к латвийской границе. «Максимками», как известно, назывались товарные поезда — в честь знаменитого русского босяка Максима Горького. Босяки разъезжали в «максимках» при царском режиме; после революции ими стали пользоваться недорезанные буржуи, пытавшиеся спастись от диктатуры пролетариата. Сам Горький тоже бежал за границу, но я не знаю, как. Вероятно, он тоже уехал в «максимке».
К отъезду приготовились мы все, — отец, мать и я, — но в последнюю минуту новгородский военный комиссариат отказался отца выпустить. До переворота отец возглавлял санитарную часть новгородского гарнизона. В этой должности он остался при большевиках, которых люто ненавидел. Всю свою сознательную жизнь отец был меньшевиком, но после дикой расправы с Кокошкиным и Шингаревым стал кадетом. Со своим новым начальством он не ладил. Когда, после прихода большевиков в власти, в Петербурге и некоторых других городах начался саботаж нового режима российской интеллигенцией, отец попытался организовать такое же движение в Новгороде, но из его попыток ничего не получилось. Интеллигенция в нашем городе была косная и малочисленная. Кроме того отцу мешало то, что он был врачом. Эта профессия возлагает на человека определенную ответственность, от которой не особенно легко отрешиться.
Мать была серьезно больна и получила разрешение уехать за границу для лечения. Мне позволили ее сопровождать. Незадолго перед нашим отъездом отца арестовали, как контрреволюционера. Его скоро, однако, освободили, благодаря заступничеству военкома, одно время служившего под начальством отца в качестве санитара. На семейном совете было решено, чтобы мы с матерью использовали разрешение на выезд немедленно. Отец же обещал последовать за нами при первой возможности.
При прощании отец торжественно нас заверил, что постарается ни в какие споры с большевиками не вступать, что он будет тише воды и ниже травы и что он «не даст этим узурпаторам повода себя арестовать».
«Я тебе не верю, ты не удержишься», — сказала мать и расплакалась.
Прощание было очень тяжелое.
Мать умерла через полгода после нашего приезда в Ригу. Я долго колебался, не зная, как поступить: писать ли отцу о смерти матери, или не писать? В конце концов, я решил ничего от него не скрывать.
Об обстоятельствах расстрела отца мне так ничего и не удалось узнать.
Из Новгорода приехала семья беженцев, не сумевшая, однако, путно ответить на мои жадные нетерпеливые вопросы.
Вдруг я получил телеграмму из Режицы — от отца! Он перешел границу, задержан в карантине и скоро приедет в Ригу. Я получил от газеты «Сегодня», в которой тогда работал, какое-то официального вида удостоверение и помчался в Режицу.
Кто-то, по-видимому, выдумал историю с расстрелом. Может быть, даже не выдумал, а просто переврал: слышал звон, да не знал, откуда он. Отца, действительно, снова арестовали и довольно долгое время продержали в тюрьме. Но врачей в Новгороде было немного; он был нужен, и его освободили.
Моего письма с сообщением о смерти матери он не получил.
Отец поселился у меня в комнате. Я до сих пор с содроганием вспоминаю о первых двух-трех месяцах нашей совместной жизни. Это было великое испытание для нас обоих.
Мы не понимали друг друга. Наша разлука была сравнительно недолгая, но мы уже были друг другу, как чужие. Мы говорили на разных языках. Вернее, тот русский язык, на котором мы с отцом разговаривали, имел одно значение для него и совсем иное значение для меня.
Читать дальше