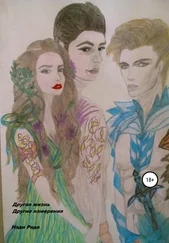Говорили, что у К. были поместья в нескольких губерниях. Возможно, что были, а возможно, что и нет. Никто фактически, ничего об Иване Фаддеевиче не знал. Но в Новгороде его считали богачем, крезом, — а крезам всякие чудачества прощаются.
И все чудачества прощались Ивану Фаддеевичу.
— Если бы мне да его деньги! — говорили завистники.
О том, что Иван Фаддеевич позволял себе говорить губернатору и всем, вообще, представителям властей предержащих, по нашему городу ходили легенды.
Рассказывали, что однажды, на приеме у губернатора, Иван Фаддеевич подошел к нему и сказал:
— Ваше Превосходительство, мне всегда хотелось знать, какие особые поручения исполняет чиновник особых поручений. Расскажите, пожалуйста.
Губернаторша считала себя певицей. Она подражала Вяльцевой, тогда пользовавшейся в России огромным успехом. Губернаторша даже чуть завидовала Вяльцевой, которая, по слухам, была любовницей лифляндского губернатора. А она, бедная наша Марья Васильевна, была законной супругой новгородского губернатора. Очень уж это было прозаично.
Губернаторша устраивала музыкальные вечера, на которых, конечно, сама пела. Много пела.
Раз, после того, как губернаторша исполнила какую-то особенно бойкую песню, Иван Фаддеевич к ней подошел, поцеловал ей ручку и учтиво спросил:
— Скажите, пожалуйста, Марья Васильевна, вы когда-нибудь учились пению?
— Нет, — с гордостью ответила Марья Васильевна. — Никогда не училась.
— То-то же, — громким шепотом, слышным на всю залу, сказал Иван Фаддеевич. — А я, представьте себе, удивлялся, почему вы не умеете петь…
В детстве со мной произошла трагедия, которая несомненно повлияла на всю мою последующую жизнь.
Я уверен, что судьба моя, не случись эта трагедия, сложилась бы иначе и что я был бы совсем другим человеком. Мой характер был бы менее сварливый, более добродушный, более приветливый. И писал бы я не короткие вещи, а пьесы в четырех или пяти актах, или длинные исторические романы, может быть даже трилогии.
Неисповедимая судьба, как я сказал бы, если бы писал трилогии, обрушилась на меня, когда мне было девять лет.
Девятилетний возраст — самый опасный для мужчины, почти такой же опасный, как и сорокалетний возраст для женщины. Я еще тогда полностью не сформировался, был только мягкой глиной, из которой судьба могла слепить, что ей было угодно.
Она и слепила.
Скульптура получилась не ахти какая. Что же…
Разыгралась трагедия на Московской стороне в субботу ночью. Я учился тогда в первом классе. Ближайшим моим товарищем был Сережа Иванов, сын нотариуса, брат Вареньки, в которую я влюбился восемь лет спустя. Сережа был моих лет, а Варя на год моложе нас. Кроме Вари, у Сережи была еще шестилетняя сестричка Наташа и двенадцатилетний брат Жоржик.
Впоследствии Жоржик стал в нашем городе своего рода знаменитостью. Он писал стихи, и мы все решили, что он и есть тот поэт Георгий Иванов, который печатается в петербургских журналах. Чтобы оправдать столь высокую честь, Жоржик всегда старался придать своему лицу презрительно-меланхолическое выражение, как и подобало служителю муз. Я тоже думал, что Сережин брат Жоржик был Георгием Ивановым.
Но в описываемое мной время Жоржик еще не был великим поэтом. Варенька училась в старшем приготовительном классе женской гимназии, а Наташа была просто противной девчонкой, ябедницей и плаксой.
Нотариус был человек суровый и строгий. Семью он держал в ежовых рукавицах. Он брил бороду, но у него были пышные, длинные тарас-бульбовские усы и такие густые брови, что один вид их наводил на нас страх.
Стоило Тимофею Алексеевичу только двинуть бровью, и мы, детвора, незамедлительно притихали.
В канцелярию нотариуса нам вход был строжайше запрещен, и прокрадывались мы туда, робея и дрожа от страха, когда Тимофея Алексеевича не было дома.
В канцелярии стояла тяжелая плюшевая мебель. Пол был устлан мягким, какого-то угрюмого темного цвета ковром. Громадный письменный стол нотариуса занимал добрую половину комнаты; во всяком случае, так нам казалось.
На стенах висели портреты трех царей: Александра Второго, Александра Третьего и Николая Второго.
Жена нотариуса, Людмила Георгиевна, была женщина хрупкая, нежная, добрая и очень что называется бонтонная. Она картавила по-петербургски, называла Сережу Сегожей, Жоржика — Жогжиком и Вареньку — Вагенькой. Читала литературные новинки и увлекалась романами Георгия Чулкова и Юрия Слезкина.
Читать дальше