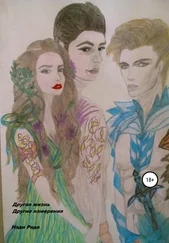В описываемую мною трагическую субботу я ночевал у Ивановых. Мы с Жоржиком и Сережей затеяли какое-то неотложное дело, которое необходимо было во что бы то ни стало закончить. Нотариус уехал в Петербург на важное совещание. Людмила Георгиевна сказала, что ничего не имеет против того, чтобы я остался у них ночевать. Не у всех еще тогда были телефоны, и Людмила Георгиевна послала кого-то из прислуги уведомить моих родителей, что я домой не приду.
Посреди ночи чья-то рука вдруг схватила меня и стащила с постели. Спросонья я стал отбиваться, но рука оказалась сильнее меня. Я очутился рядом с Жоржиком и Сережей. Вскоре к нам присоединились Варенька и Наташа. Посреди комнаты на стуле грозно восседал нотариус.
В его руке была розга. Каждого из нас он по очереди усердно и обстоятельно выпорол. Людмила Георгиевна стояла возле мужа и плакала.
Подробности я узнал потом. Нотариус срочно вернулся домой, чтобы захватить какие-то забытые им нужные бумаги. Пришлось ждать следующего поезда, который уходил рано утром.
Времени до отъезда оставалось немного, и нотариус решил воспользоваться превосходным случаем, чтобы выпороть своих детей. Тимофей Алексеевич придерживался мнения, что дети заслуживают порку в любое время дня и ночи. Нотариусу предстояло пробыть в отлучке около недели. Он никак не мог допустить, чтобы его сыновья и дочери так долго прожили вдали от отцовской карательной десницы.
Час был ночной. Нотариус был расстроен тем, что ему не удалось вовремя уехать в Петербург.
Он даже не заметил, что выпорол не только своих собственных детей, но и лишнего мальчика в придачу. Людмила Георгиевна этого тоже не заметила.
Я себя чувствовал тогда так, как теперь несомненно чувствует себя невинная жертва какого-нибудь нарушителя социалистической законности.
В начале октября 1914 года инспектор Новгородского реального училища Сергей Степанович Ипатьев вошел в уборную и застиг меня с папироской в зубах.
Инспектор, как мы все знали, ходил в уборную только для того, чтобы ловить там курящих. Он также по вечерам околачивался в Кремлевском парке, где выслеживал реалистов, обнимавшихся с гимназистками. Гимназистов, обнимавшихся с гимназистками, Ипатьев не трогал; за ними охотился инспектор мужской гимназии.
То были первые месяцы первой мировой войны. Фон Ренненкампф наступал в Восточной Пруссии, и никто еще не подозревал, что очень скоро злые языки переменят ему фамилию на Реннен фон Кампф. В Галиции австрийцы не то уже от нас бежали, не то собирались бежать. Я был ярым патриотом-оборонцем, и настроение у меня было отменное. Вокруг меня раздавался гром победы. Если война продлится еще четыре года, меня призовут на военную службу, и я стану вторым Суворовым. Лавры Суворова не давали мне спать. Мне всегда хотелось встать в военном лагере на рассвете и прокричать петухом «Ку-ка-ре-ку!»
Курить я начал за неделю до печального инцидента, чтобы ускорить процесс своего возмужания. Признаться, курение еще не доставляло мне нужного наслаждения. В горле от затягивания становилось горько и противно. Я, вероятно, поперхнулся и раскашлялся, когда Сергей Степанович вошел.
Взглянув на меня, он весь побагровел, как будто никогда в жизни раньше не видел мальчугана с папироской в зубах.
— Ты что, — заорал он. — Куришь?
Я сразу не нашелся, что ответить. Отрицать было невозможно; ведь инспектор поймал меня с поличным. Но и соглашаться с ним как-то не хотелось. Я решил ничего не отвечать.
— Говорить разучился, — продолжал инспектор. — Как тебя зовут?
Это был ехидный вопрос. У Ипатьева была феноменальная память на имена и лица. Он превосходно знал, как меня зовут.
Но, будучи по натуре оптимистом, Ипатьев надеялся, что я попадусь на удочку и совру — назову какую-нибудь фиктивную фамилию. Я этого не сделал, и инспектор обиделся.
— Цыгарки секретно куришь, а? — продолжал Сергей Степанович.
Ипатьев был народником. Он уснащал свой разговор такими словечками, как «чай», «стало быть», «тае», «то-то-же» и «пошла писать губерния». Что бы ни случалось, за этим неизменно следовало восклицание: «И пошла писать губерния!» Иногда, в особенно вдохновенные минуты, инспектор торжественно величал своих подданных, даже третьеклассников, «Добрый молодец».
Он хорошо знал, что цыгарка — не папироска и не сигара. Но слово «цыгарка» придавало всему нагоняю какую-то особенную народность.
Четыре года спустя этой же народностью прельстился Александр Блок, написавший: «В руках цыгарка — примят картуз». Я уверен, что описанный Блоком дезертир курил не цыгарки, а папиросы-самокрутки.
Читать дальше