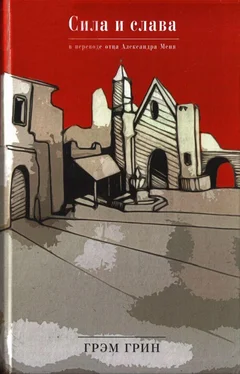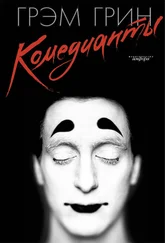— Ну, чего ты ждешь?
— Разрешения уйти, ваше превосходительство.
— Я не превосходительство. Научись называть вещи своими именами. Ты здесь раньше бывал? — спросил он резко.
— Никогда.
— Твоя фамилия Монтес? За последние дни мне часто попадались люди с этой фамилией. Это все твои родственники?
Он пристально всматривался в него, словно что-то припоминая.
— Мой двоюродный брат был расстрелян в Консепсьоне, — поспешно ответил священник.
— Не по моей вине.
— Я только хотел сказать, что мы похожи: наши отцы были близнецами. Они родились друг за дружкой. Наверное, вашему превосходительству показалось…
— Насколько я помню, он на тебя не был похож; высокий, худой… узкие плечи…
— Наверное, только родственники так считали… — быстро сказал священник.
— Впрочем, я ведь видел его только раз.
Казалось, какая-то мысль тревожила лейтенанта, когда он сидел задумчиво, постукивая смуглыми индейскими пальцами по страницам.
— Куда ты пойдешь?
— Бог знает.
— Все вы такие! Когда вы поймете, что ничего Бог не знает.
Какой-то маленький живой комочек, похожий на зернышко головни, бежал по странице перед ним; он раздавил его пальцем и сказал:
— У тебя не было денег на штраф? — И взглянул на еще одну букашку, суетящуюся среди листьев в поисках убежища. В этой жаре жизнь так и кишела.
— Не было.
— На что собираешься жить?
— Поищу, наверное, какую-нибудь работу.
— Ты становишься слишком стар, чтобы найти работу. — Он вдруг сунул руку в карман и вытащил монету в пять песо. — Вот. — сказал он. — Убирайся, и чтобы я больше не видел твоей рожи. Запомни.
Священник зажал в кулак монету — стоимость заказной обедни. Он сказал изумленно:
— Вы хороший человек.
Было еще раннее утро, когда он переправился через реку и вышел, весь мокрый, на другой берег. Он рассчитывал кого-нибудь здесь встретить. Бунгало, сарай с жестяной кровлей, мачта для флага — он был убежден, что все англичане на закате спускают флаг с пением «Боже, храни короля». Он осторожно обогнул угол сарая, тронул дверь. Она легко поддалась. Он снова оказался в том темном помещении, где уже бывал. Сколько с тех пор прошло месяцев, он не имел представления. Только помнил, что тогда до сезона дождей было еще далеко; теперь же он начинал входить в силу. Через неделю пересечь горы можно будет только на самолете.
Священник стал шарить ногой вокруг себя; он так проголодался, что даже несколько бананов были бы теперь лучше, чем ничего: он не ел два дня — но здесь не оставили ни единого. Видимо, он попал сюда в тот день, когда бананы уже сплавили по реке. Он стоял у двери, пытаясь вспомнить, что говорила ему девочка об азбуке Морзе, о ее окне. На той стороне мертвенно белого пыльного двора луч солнца высветил москитный полог. Внезапно он вспомнил о пустом складе. Он тревожно прислушался — кругом ни звука. День здесь еще не начинался. Не слышны первые сонные шарканья туфель по цементному полу. Собака еще не скреблась, как обычно, в дверь. Не стучала легкая рука. Ничего этого не было.
Который час? Давно ли рассвело? Определить было невозможно. Время тянулось бесконечно; оно так напряглось, что, казалось, вот-вот треснет. В конце концов, наверное, не очень рано — часов шесть-семь… Он понял, как рассчитывал на эту девочку. Она единственное существо, которое смогло бы ему помочь, не подвергая себя опасности. Если в ближайшие дни он не переберется через горы, он пропал. С таким же успехом можно было выдать себя полиции. Потому что как пережить сезон дождей, не имея никого, кто рискнул бы дать ему пищу и кров? Было бы лучше, быстрей, если бы его опознали в полиции неделю назад. Насколько это было бы проще. И вдруг он услышал звук; словно манящая надежда воскресла вновь: кто-то царапался и повизгивал. Здесь это означало наступление утра — звук жизни. Он жадно ждал, стоя в дверях.
И тут он увидел: через двор тащилась псина, жалкое существо с обвислыми ушами. Она волочила раненую или сломанную ногу и скулила. Что-то случилось и с ее хребтом. Двигалась она очень медленно. Можно было пересчитать все ее ребра, как у скелета в музее естествознания. Было ясно, что она давно ничего не ела: ее бросили.
В отличие от него у нее тлела какая-то надежда. Надежда — это инстинкт, только человеческий рассудок может убить ее. Животные никогда не отчаиваются. Наблюдая, как тащится раненая собака, он догадался, что она проделывает это ежедневно уже много дней, а может, и недель.
Читать дальше