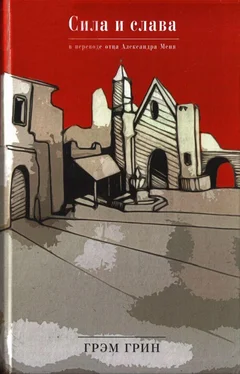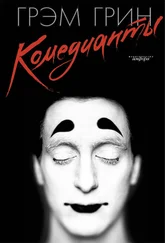— Ведь это вас мучило? — спросил он. — Так страдать из-за этого лучше, чем быть счастливой монахиней.
Сказав это, он сразу же подумал: «Глупое замечание, какой в нем смысл? Почему я не в состоянии сказать ей что-то, что она сохранит в памяти?» Он прекратил попытки. Место это очень похоже на весь мир: люди хватались за любую возможность урвать наслаждение и потешить гордость, невзирая на тесноту и неудобство; и тут некогда заниматься чем-то осмысленным, они мечтали лишь о бегстве.
Заснуть он уже не мог: он снова торговался с Богом. На сей раз, если он убежит из тюрьмы, то убежит совсем. Переправится на север через границу. Бегство его было настолько невероятным, что, если оно удастся, его следует считать явным знаком — указанием, что он больше приносил вреда своим примером, чем пользы, изредка принимая исповеди. Старик зашевелился у него на плече; ночь никак не кончалась. Всюду было так же темно, часы нигде не били, и нельзя понять, сколько прошло времени. Его течение отмечалось только звуком, когда кто-нибудь мочился.
* * *
Вдруг он заметил, что различает чье-то лицо, потом еще одно; он уже начал забывать, что новый день когда-нибудь наступит, — так люди забывают, что когда-нибудь придет смерть; осознание того, что время движется к концу, приходит внезапно — в скрипе тормозов или в свисте выпущенной пули. Постепенно все голоса превратились в лица — никаких открытий это не принесло. Исповедальня приучает определять по голосу отвислую губу, убегающий подбородок или фальшивую искренность слишком честных глаз. В нескольких шагах от себя он увидел набожную женщину, забывшуюся тяжелым сном: чопорный рот ее приоткрылся, обнажив зубы, прочные, словно надгробья; увидел старика; хвастуна в углу и его расхристанную женщину, спящую поперек его колен. Сейчас, когда наступил день, бодрствовал лишь он один да еще маленький мальчик-индеец, который сидел, скрестив ноги, у двери с выражением любопытства и радости, словно никогда не бывал в такой приятной компании. По ту сторону двора стала видна побеленная стена. Он начал прощаться с этим миром, но не мог вложить в покаянную молитву сердце. Свою греховность он ощущал не так ясно, как смерть.
Одна пуля, думал он, почти наверняка попадет в сердце — должен же быть хотя бы один хороший стрелок в команде. Жизнь покинет его «в долю секунды» — так обычно выражаются. Однако всю ночь он осознавал, что время зависит от боя часов и от передвижения света. Но часов не было, а свет оставался неизменным. На самом деле никто не знает, какой долгой может быть секунда боли. Она может длиться, пока человек в чистилище… или вечно. Почему-то он вспомнил человека, умиравшего от рака, которому он отпускал грехи. Родные закрывались платками, так нестерпимо было исходившее от него зловоние. Нет, он не святой. В мире нет ничего столь уродливого, как смерть.
— Монтес! — крикнул голос со двора.
Он встрепенулся, сидя на своих онемевших ногах. «Костюм теперь ни на что не похож, — подумал он автоматически, — перепачкан, пропитан грязью тюремного пола и запахом сокамерников». Священник приобрел его с большим риском в магазине внизу у реки, прикинувшись мелким фермером, который хочет пофорсить. Потом он вспомнил, что костюм послужит ему уже недолго — эта мысль причинила ему странную боль, как будто перед ним в последний раз захлопнулась дверь дома.
— Монтес! — нетерпеливо повторил голос.
Священник вспомнил, что теперь это его имя. Он отвел глаза от своего погибшего костюма и увидел, что сержант отпер дверь камеры.
— Ко мне, Монтес!
Он осторожно прислонил голову старика к сырой стенке и попытался встать, но ноги не повиновались ему.
— Ты что, собираешься спать всю ночь? — ехидно заметил сержант: что-то привело его в раздражение, он уже не был дружелюбным, как накануне. Он пнул ногой человека, спящего у двери.
— Эй вы! Вставайте все! Выходите во двор!
Повиновался только мальчик-индеец. Он выскользнул, сохраняя выражение невозмутимого счастья. Сержант недовольно заворчал:
— Грязные собаки! Они что, думают, мы будем их мыть? Эй, Монтес!
Жизнь возвращалась в ноги вместе с болью. Священник дотащился до двери.
Двор вяло пробуждался к жизни. Люди стояли в очереди к единственному крану, где они ополаскивали лица; человек в куртке и штанах сидел на земле, чистя винтовку.
— Идите во двор умываться! — заорал сержант. Однако, когда священник вышел, он грубо остановил его:
— К тебе это, Монтес, не относится.
Читать дальше