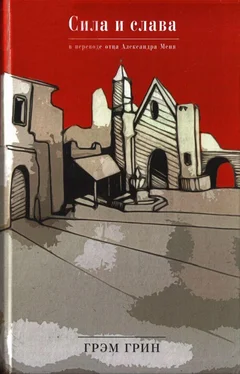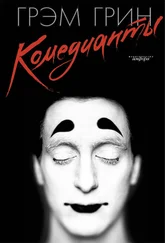Он смотрел на один из привычных признаков наступающего утра, такой же, как пение птиц в более счастливых краях. Собака дотащилась до двери веранды и начала скрестись одной лапой, странно распластавшись у порога. Нос ее приник к щели, казалось, она принюхивается к непривычному запаху пустых комнат; затем она нетерпеливо заскулила и вильнула хвостом, будто услышала внутри какое-то движение. Потом завыла.
Священник не мог больше этого вынести; он понял, что все это значит; теперь можно самому во всем удостовериться. Он вышел во двор. Животное неуклюже обернулось — пародия на сторожевого пса — и залаяло на него. Он был не тем, кто ей нужен. Ей требовалось то, к чему она привыкла, она хотела вернуть прошлое.
Священник заглянул в окно — наверное, это была комната девочки. Оттуда все вынесли, кроме поломанных и ненужных вещей. Остались картонная коробка, набитая рваной бумагой, и колченогий стульчик. В побеленной стене торчал огромный гвоздь — наверное, на нем висело зеркало или картина. На полу — сломанный рожок для обуви.
Собака, рыча, тащилась по веранде; инстинкт похож на чувство долга, его очень легко принять за верность. Священник избавился от собаки, отступив из тени дома на солнце; псина не могла последовать за ним достаточно быстро. Потом он толкнул дверь, и она легко открылась — запереть ее никто не позаботился. На стене висела старая шкура аллигатора, неумело снятая и плохо высушенная. Он услышал позади сопение и обернулся: собака переступила двумя лапами через порог, но теперь, оказавшись в доме, он не обращал на нее внимания. Он был здесь хозяином, а ее занимали запахи, которые шли со всех сторон. Она тащилась по комнате, шумно принюхиваясь.
Священник открыл левую дверь — вероятно, это была спальня. В углу валялась куча старых пузырьков из-под лекарств. В некоторых осталось немного яркой жидкости на дне. Здесь были лекарства от головной боли, от расстройства желудка, лекарства, которые принимают до и после еды. Должно быть, кто-то был очень болен, раз понадобилось столько лекарств. Здесь лежал сломанный гребень и катышек счесанных волос, очень светлых и побелевших от пыли. «Тут жила ее мать, больше некому», — с облегчением подумал он.
Он прошел в другую комнату, окно которой с москитной сеткой выходило на пустынную, медленно текущую реку. Это была гостиная: хозяева оставили тут складной фанерный столик для игры в карты, купленный за несколько шиллингов; его не стоило брать с собой, куда бы люди ни отправлялись.
Может быть, мать ее умирала, размышлял он. Наверное, убрали свой урожай и уехали в столицу, где есть больница. Он прошел в следующую комнату — это была та самая, что он видел со двора, комната девочки. С печальным любопытством он вытряхнул рваные бумаги из картонной коробки. У него было чувство, словно он делает уборку в доме покойника и решает, что было бы слишком больно сохранить.
«Непосредственным поводом Американской войны за независимость послужило так называемое „Бостонское чаепитие“, — прочел он. По-видимому, это была часть сочинения, старательно написанного большими четкими буквами. — Но настоящей причиной… (слово было написано с ошибками, зачеркнуто и переписано) было: правильно ли облагать налогом тех, кто не имел представителей в Парламенте». Очевидно, это черновик — слишком много в нем было помарок. Он вытащил наугад другой клочок бумаги — там речь шла о людях, называвшихся «виги» и «тори» — слова были ему незнакомы. Что-то вроде пыльной тряпки плюхнулось с крыши во двор — это был гриф. «Если пять человек, — читал он, — выкашивают за три дня луг в четыре и пять четвертей акра, то сколько выкосят два человека за один день?» Под вопросом была проведена аккуратная черта и шли ряды цифр, безнадежно запутанных, так как ответа не выходило. Скомканная выброшенная бумага говорила о жаре и раздражении. Он очень ясно представил себе, как девочка решительно разделывается с задачей: ее четкое лицо с двумя заколотыми косичками. Он вспомнил, с какой готовностью она поклялась вечно ненавидеть любого, кто причинит ему зло. И вспомнил, как его собственная дочь заигрывала с ним, сидя на свалке. Он плотно закрыл за собой дверь, словно боялся, что кто-то убежит. Он слышал, как где-то заворчала собака, и, пройдя туда, оказался в комнате, которая прежде служила кухней. Псина лежала полуживая и скалила свои притупившиеся зубы над костью. Через москитную сетку в окно смотрело лицо индейца, словно его повесили сушиться на солнце — темное, морщинистое, отталкивающее. Индеец уставился на кость, как будто хотел отнять ее. При виде священника лицо сразу исчезло, будто его и не было, оставив священника одного в пустом доме. Священник тоже уставился на кость.
Читать дальше