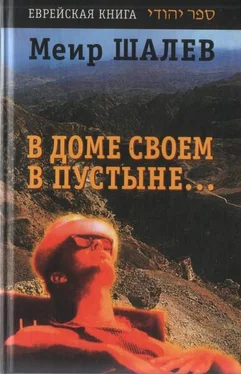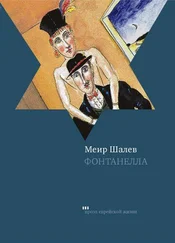«Разумеется, может статься, — продолжал директор чтение письма благодетеля, — что с вашей точки зрения, дорогие слепые дети, не имеет никакого значения, желтый это кот или черно-белый, — тут директор поднял взгляд, словно намереваясь добавить что-то от себя, но, так ничего и не сказав, тут же вновь опустил голову и продолжил читать по написанному: — Но вам следует знать, что благодаря их величине, быстроте и смелости никто не может сравниться с североамериканскими черно-белыми гигантами в ловле мышей, а североамериканский желтый черно-белый гигант легко одолеет также любую крысу!»
«Котов в Иерусалиме, что соломы в Пылиме», — пробормотал один из учителей заведения своему приятелю таким почти неслышным шепотом, что его услышали только слепые дети и кот. Но кот, будучи американцем, не понял того, что услышали его уши, а дети, будучи слепыми, хоть и поняли, но сохраняли на лицах выражение почтительной благодарности, потому что знали, что вслед за котом из Америки прибудет также обычное пожертвование — в виде денег, и одежды, и сладостей, и синих беретов, и высоких ботинок.
Редчайший желтый представитель североамериканских черно-белых гигантов не посрамил свою репутацию. В первую же свою ночь в Доме слепых он убил рядового серого представителя западноиерусалимских светло-коричневых карликов, который доселе властвовал в парке заведения, изловил трех мышей и вдобавок, словно желая полностью подтвердить слова директора, придушил также двух больших, жирных крыс. Шесть этих трупов он приволок в синагогу Дома слепых и положил к подкосившимся ногам директора в самый разгар субботней утренней молитвы.
Успехи желтого кота в умерщвлении мышей и крыс очень обеспокоили обитателей Дома слепых, потому что до его появления они даже не подозревали, что укрывают под своей кровлей такое множество вредителей, и жили с ними в самом удобном из всех возможных сосуществований — закрыв глаза и в слепоте блаженного неведения. Но коту не понадобилось так уж много времени, чтобы понять, что куда легче красть еду из тарелок слепых детей, чем рыскать по подвалу в поисках крыс и мышей. Теперь он стал расхаживать на мягких лапах в вечной тьме здания, видящий и невидимый, слышащий и неслышимый, а вскоре совсем осмелел и вышел в парк, где встретил Готлиба-садовника. Они посмотрели друг на друга, садовник сказал: «Кссс… кссс…» — кот прыгнул, уселся на обрубки его ног, и они стали друзьями.
ИНОГДА Я ВЕДУ МАШИНУ С ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ
Иногда я веду машину с закрытыми глазами. Отсчитываю шаги колес по памяти дороги, останавливаюсь, выключаю мотор и открываю глаза. В первые дни в пустыне я еще не знал, как опасно это неожиданное возвращение тишины и света. Словно внезапный удар, от которого я однажды даже споткнулся и упал, растянувшись во весь рост. Теперь, попривыкнув и набравшись опыта, я выжидаю. Глаз, этот примитивный орган, съежившись от страха, подгоняет слепящую картину к своему воспоминанию о местности. Ухо, этот туповатый орган, на миг пугается беззвучия, но дело свое не прекращает. В некотором недоумении оно продолжает перемалывать тишину, а сознание, которое страшится всего пустого, преобразует молчание в тончайший свистящий звук.
А когда я снова уступаю уколам острого света пустыни и прикрываю пальцами глаза, во мне поднимаются голоса, и идут, и подходят все ближе. Вот они: слепые дети учатся ходить по грунтовой дороге, родители выкрикивают имена в пространство между домами, нога отсчитывает шаги, я пришел, учительница, я пришел, спотыкается о жестянку, опустившаяся рука, вскрик уязвленной плоти, резкий свист. Как это приятно, так вытягивать и распускать — точно тянешь нить из вязанья собственного тела. Летом мы сиживали на перекрестках, играли в «пять камешков» и «шарики», разбрасывали на грунтовой дороге пустые жестянки, чтобы испуганные слепые дети спотыкались о них, а по вечерам пробирались к стенам — к стене Дома сумасшедших, чтобы услышать вопли и завывания, к стене Дома слепых — чтобы подсмотреть, как раздеваются слепые девочки, к стене Дома сирот — чтобы подслушать крики боли, и голода, и сиротства.
— Если наша Мама умрет, — спросила ты однажды с неожиданным страхом, — нас с тобой тоже отведут сюда?
— Что за глупости ты болтаешь?! — рассердилась Бабушка. — Мать — это не отец. Она не умрет. А кроме того, у нас здесь достаточно матерей.
Рожки отцовского фонендоскопа воткнуты в мои уши. Молчание. Это только пузырьки — то, что постукивает по стенкам клеток моего тела. Это только воздух — тот, что в узких канальцах моих легких. Вечер опускается на дома нашего квартала. Это всего лишь земной шар, что тяжело поворачивается на заржавелости своих осей. Это занавес темноты, всегда неожиданный в своем падении, и окна квартала открываются в нем, точно желтые глаза.
Читать дальше