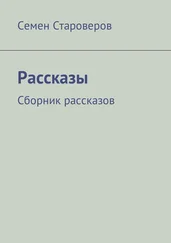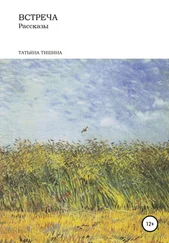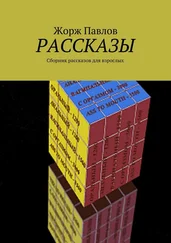Вместе с четырехнедельной славой благочестия Мартина Грамбауэра рухнула также и его слава искусного звонаря. Настолько, что он даже не приехал домой на пасху — так ему было стыдно. Куммеровские крестьяне, правда, еще некоторое время хвастались поступком Мартина и его силой, но только потому, что это оправдывало их мнение о благотворном воздействии хорошего пунша.
На троицын день Мартин Грамбауэр, однако, приехал. Маленький и жалкий. В городе и в школе тоже обо всем стало известно, и за опьянением славой последовало тяжелое похмелье. Кантор Каннегисер пригласил Мартина к себе. Он, как всегда, благожелательно улыбался своему бывшему любимому ученику, слушая с трудом дающийся тому рассказ, и сказал:
— Ты говоришь, тебя позвали в ту ночь колокола славы? Мой дорогой мальчик, для того чтобы извлечь мораль из твоего рассказа, как полагается в немецкой литературе, я хотел бы к нему кое-что присовокупить. Видишь ли, колокола славы, даже в более серьезных случаях, не сохраняют своей ценности надолго, прежде всего они не имеют всеобщего звучания. Что кажется кому-то колоколами славы, воспринимается его коллегами большей частью как набатный звон. Завистливые люди яростно нападают на прославившегося и бывают снова счастливы лишь тогда, когда из их набатного колокола и его колокола славы возникнет похоронный звон. И поскольку так ведется в жизни, покуда человек остается несовершенным, представляя собой смесь духовного и материального начала, я говорю тебе, для необычного поступка безразлично, откуда у человека взялись силы, чтобы совершить его: вызван ли его творческий порыв воодушевлением или хорошим глотком вина. Эта история должна научить тебя только одному: не будь тщеславным! Тебе захотелось тогда звонить в колокол, только чтобы похвастаться. Поэтому ты потерпел крушение. Не обычные поступки, а именно те, которые человек совершает во имя высокой цели, потому что должен их совершить, такие поступки поют ему славу сами. И наиболее громко, неподдельно и долго они звучат тогда, когда человек их даже не слышит, потому что не хочет слышать. Вот так-то. И приходи-ка сегодня вечером, я приготовлю хорошую жженку! От нее не бывает никакого похмелья. К тому же мы снова почитаем немного стихи Гердера. — Он подмигнул Мартину. — Может быть, стихотворение о славе, где говорится:
Блажен, кого всеобщий глас
Прославит от души.
Но мне милей, кто всякий час
Творит добро в тиши.
Вдвойне заслугам честь моим,
Коль сам остался я незрим [17] Строфа из стихотворения И. Гердера «Посмертная слава». Перевод Л. Карельского.
МОЛОТ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ИМ РАБОТАЛИ
Клеббовский бык
Страницы деревенской хроники
Они убирают хлеб на полях, убирают косой, как прежде, как тридцать, как сорок лет назад. Самая прекрасная из всех мужских работ, потому что ведь это широкий взмах косы движет телом, а не тело движет косою. Потому что после ритмичных полукруглых взмахов остается на поле волнистая гирлянда и зерно, падающее на сталь косы, издает чудесное, стройное звучание. Звуки словно становятся зримыми, и надо всем этим — трепещущее сияние летнего солнца. Великолепнейшая мирная симфония.
У леска неподалеку от деревни играют дети, которые еще ничем не могут помочь в поле. За стволами ярко освещенной сосновой рощи исчезает цепочка мальчишек; если вглядеться попристальнее, увидишь, что они маршируют и держат на плечах палки, а если получше прислушаться, то услышишь, что поют они нечто маршеобразное, отдающее тысяча девятьсот четырнадцатым, если не тысяча девятьсот тридцать девятым годом.
И девочки тоже играют и поют как прежде, игра в салочки и в прятки остается неизменной.
Ты, да я, да мы с тобой
Пошли в Клеббов за едой.
Двадцать там стоят домов,
Двести там мычат коров,
И на двадцать едоков
Двадцать там окороков.
Все съедают до костей.
Выходи-ка поскорей.
И ни один чужеродный звук больше не вторгается сюда, маленькие дочки переселенцев уже нашли дорогу домой. Должно быть, у них совсем другие ощущения возникали при словах «двадцать окороков», нежели у девочек из старых деревенских семей. Но девочки вообще ни о чем не думают во время игры, они просто играют в жизнь. Да и мальчишки ни о чем не думают, когда маршируют, они просто играют в смерть. И Генрих Грауманн тоже ни о чем не думает, глядя на них. Единственно, чтобы позлить взрослых, он играет с детишками в жизнь и в смерть.
Читать дальше
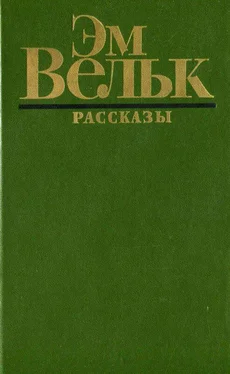

![Эльза Моранте - Андалузская шаль и другие рассказы [сборник рассказов]](/books/182445/elza-morante-andaluzskaya-shal-i-drugie-rasskazy-thumb.webp)