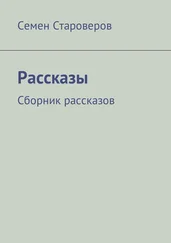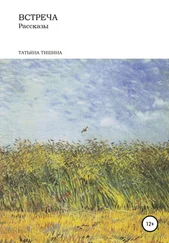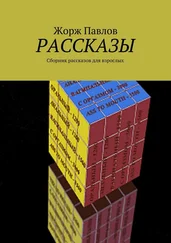Два друга стали неразлучными сразу после войны тысяча восемьсот семидесятого года. Тогда они ходили в великих героях и еще не были жалкими пенсионерами. Муркельманн вернулся домой после тяжелого ранения в голову, а у папаши Берэншпрунга одна нога была деревянной. Зато в первые годы, когда союз фронтовиков устраивал шествия, увенчанные венками из листьев дуба, они шли отдельно, позади председателя союза, старого графа, и впереди всех крупнопоместных крестьян. В зале они сидели между первым председателем и вторым, деревенским старостой, а в торжественных речах их заслуги отмечались особо. Тогда они охотно возвращались по ночам в свои убогие жилища или их приводили домой. Они безропотно терпели нищету и трудились до следующего всенародного праздника, которых, по счастью, в году было три: день рожденья императора, Седан и день рожденья графа.
Но время, время делало свое дело. И хотя оно выжгло эти три великих праздника в сердцах людей, с каждым годом стиралась память о подвигах ветеранов и кавалеров Железного креста. Старые фронтовые друзья умирали один за одним, а новые члены союза были людьми, просто где-то служившими, — героями казарм. Как например оба новых председателя. И уже никто не чествовал ни венком из дубовых листьев, ни почетным местом в день рожденья императора и графа и не воздавал хвалу двум прославленным героям, только в годовщину Седана о них снова вспоминали, да и то вместе с другими участниками войны, вернувшимися домой невредимыми. От такой забывчивости и неблагодарности помогала разве что водка, умеренное бунтарство и безмерное бахвальство.
Тут уж подвиги превращались в решающие сражения, а сами рассказчики — в деревенских дурачков, над которыми все добродушно подтрунивали.
Ночной сторож Берэншпрунг рассказывал: «Берэншпрунг, — говорит мне ротмистр, — сейчас мы им покажем». Меня он почему-то любил, хотя вообще был сукин сын. Ну, я тут как тут, а они давай пулять из своих митральёзов, ну чисто лук из лейки поливают. Вот, думаю, из лейки все выльется, а лук останется. Так оно и вышла, а потом эту проклятую батарею… Они думали, если у них там такие дуры, то все. Во какие засранцы-антилиристы. Не потеряй я тогда ногу… Это уж точно. После в полевом лазарете глаза открыл, а возле меня мой ротмистр стоит. Берэншпрунг, говорит, ведь без тебя бы мы пропали. А потом мне полковник самолично… так точно, собственной рукой Железный крест к форменке пришпилил: «Берэншпрунг, полк тобой гордится». И генерал в приказе по корпусу объявил: «В смертном бою под Массатур мы победили благодаря таким героям, как наш Берэншпрунг…» (Пауза.) Ну, а теперь? Я тебе говорю, что теперь? Теперь какой-то паршивый граф, вишь ты, не желает, чтоб я в годовщину Седана шел за ним. А длиннорясый поп мораль мне читает, что в годовщину Седана выпиваю-де на стакан больше. И я тебя спрашиваю, Муркельманн: «Где на свете справедливость? Нет, ты мне скажи…»
На это Олл Муркельманн отвечал: «Касаемо французов с ихними митральёзами, может, ты и прав, Берэншпрунг… Но антилерия, скажу я тебе, будь там не мусье в красных штанах, а прусская полевая антилерия, где б ты был со своей ногой? Я бы на ихнем месте тебя как жахнул снарядом по передку, места бы не осталось, куда полковнику приколоть крест. То ли дело наша батарея под Вёртом: только мое орудие и стреляло. Гляжу я: ну, думаю, конец пришел. Все лежат товарищи мои, какие померли, а какие кричат. Ну, думаю, пора драпать. Но все ж решил: нет, погоди, Муркельманн, лучше умри героем. Сам заряжал, наводил и стрелял. Французишки врассыпную. Каждый выстрел в цель. Я вижу: вон они — и беглым огнем крою… Заряжаю, целюсь, стреляю! Все сам, чтоб ты знал, а они дёру. Мне бы передохнуть, а я все заряжаю да стреляю, даже наводить перестал. Только заряжал…»
Тут его в первые годы всегда обрывал Крюгер, тоже ветеран; тот, правда, ранен не был и служил в пехоте: «Да, и так все время: заряжал, стрелял. Наводить тебе не нужно было, только заряжать да стрелять. А потом и заряжать перестал. Стрелял да стрелял… Вот теперь мы знаем, почему ты так руками размахиваешь».
На это Муркельманн хрипел: «Так точно… если я и перестал стрелять, так только потому, что проклятый француз гранатой как вдарит… Да. Попробуй-ка со здоровущей дыркой в башке… Что ты понимаешь, пехтура несчастная, в антилерии? Ты получил Железный крест али я? Ты, думаешь, тебе его дадут за здорово живешь? Ты, что ли, выиграл битву при Вёрте или я? Ты герой или я? Ты думаешь, послали б они меня в полевую жандармерию, если б я не был таким заслужённым человеком? А знаешь ты, что такое полевая жандармерия? У меня во какая власть была! Я всех мог заарестовать, всех как есть. Я б тебя зараз арестовал, да только ты и в бою-то ни разу не был. И Берэншпрунга, хоть он герой, и того… мог арестовать. Это точно, по своему усмотренью… И его ротмистра тожа, и полковника тожа, и генерала тожа, то-то и оно. Жандарму все дозволено. А я им был. А теперь что? А теперь я помалкиваю в тряпочку, когда десятник мне велит: „Муркельманн, заткнись и работай!“ А моя старуха такая же паскуда, как граф и пастор… Кто был полевым жандармом, она или я? Кто герой, она или я? Они еще узнают Олла Муркельманна, Нужно революцию сделать, а меня жандармом при ней. Вот ужо достанется им: и господину графу, и чернорясому, и тебе тоже, Крюгер!»
Читать дальше
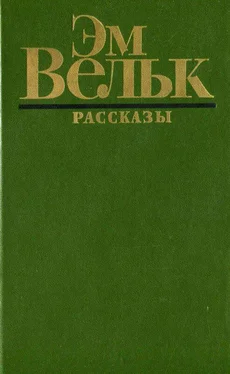

![Эльза Моранте - Андалузская шаль и другие рассказы [сборник рассказов]](/books/182445/elza-morante-andaluzskaya-shal-i-drugie-rasskazy-thumb.webp)