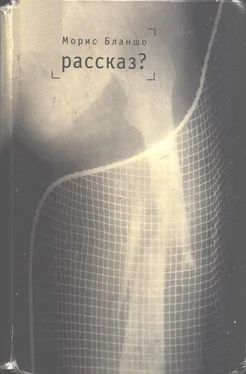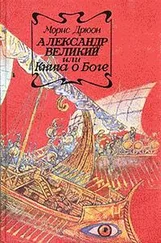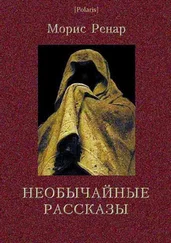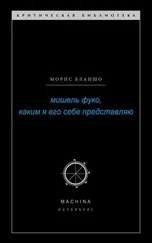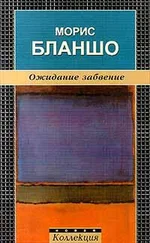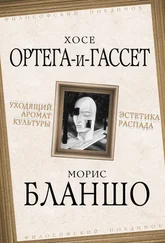И все же, пребывая рядом с корпусом творений, мы невольно, пусть даже просто своим чтением, вторгаемся в сферу биографии: биографии на сей раз писателя. Другой вопрос, где кончается жизнеописание человека и начинается эта самая биография мыслителя, автора? Да еще настаивающего, причем самой своей жизнью, не только на собственном отсутствии, но и на граничащей с анонимностью самодостаточности своего Произведения… Как подойти к подобному произведению и творчеству? [7] Не является ли “отсутствие” Бланшо своеобразной его подписью, о которой говорит Деррида в “Отобиографиях”, рассуждая о “биографии философа”: “Нет, новая проблематика вообще биографического и, в частности, биографии философов должна мобилизовать новые ресурсы и, как минимум, новый анализ имени собственного и подписи”. Не о той ли же коллизии — подступая к ней с противоположной стороны, стороны Ницше — говорит он и далее, рассуждая о “кромке между произведением и жизнью, системой и ее субъектом”: “Эта кромка […] ни активна, ни пассивна; ни вне, ни внутри. Более того, она не есть некая тончайшая линия, некая неразличимая или неразделимая связующая черта между загоном философем, с одной стороны и, с другой, ‘жизнью’ уже опознаваемого под своим именем автора. Делимая кромка эта пересекает оба ‘корпуса’, свод и тело, сообразно законам, о которых мы только начинаем смутно догадываться” (Ж. Деррида. Ухобиографии, СПб., Академический проект, 2002, стр. 44–45).
В данном случае чреватым недоразумениями оказывается даже, казалось бы, самый простой и надежный подход — хронологический, ведь именно генезис Бланшо-писателя, его переход от крайне правой политической журналистики и сопутствующей литературной критики 30-х годов к внеположному политике художественному и теоретическому творчеству 40-х — 60-х подвигло ряд ревнителей политкорректности как на пристрастное расследование “ангажированности” праворадикального в 30-е годы и весьма левого после войны писателя, так и на далеко заходящие спекуляции касательно чуть ли не фашистской подноготной его литературного и теоретического наследия. [8] Решающая роль в продвижении темы “антисемитизма” и “близости” Бланшо к фашизму принадлежит американскому университарию Джефри Мельману (см. G. Mehlman. Legacies ot anti-semitism in France, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1983 и ряд более поздних работ); среди прочих его идеи развивают Филипп Менар (Р Mesnard. Maurice Blanchot. le suiet de lengagement, L’Harmattan, 1996) и Стивен Ангар (S. Ungar. Scandal and Altereltect, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1996). Наиболее непредвзято связанные с политической активностью Бланшо факты изложены в книгах Лесли Хилла (L. Hill, Maurice Blanchot, Extreme Contemporary, Routlcge, 1997) и Кристофа Бидана (op. cit.), там же дана и очень аккуратная, подчеркнуто осторожная оценка “передержкам” вышеозначенных критиков; интересна и реконструкция интеллектуальной биографии писателя, предложенная Майклом Холландом в книге The Blanchot Reader, Blackwcll, 1995 (все эти источники охватывают также и послевоенную ангажированность Бланшо — от войны в Алжире до мая 1968 года). Более резкое и убедительное в своей лапидарности мнение по поводу несостоявшегося “дела Бланшо” см. в заметке Жан-Люка Нанси “A propos de BUmchot ”, L '(Eil de hoeul, 14/15, 1998, pp. 55–58. По-русски за неимением лучшего еще раз сошлемся на послесловие к “Мишелю Фуко…”, op. cit.
Мы же самими рамками настоящего издания вынуждены отчленить корпус (точнее, часть корпуса) прозы Бланшо не только от его политической биографии (что, на наш взгляд, и должно быть сделано), но и от и это уже трудно восполнимое лишение его многочисленных теоретических работ, задним числом способных послужить осмыслению и тем самым про-яснению, выведению к свету истины той мысли (тавтологическая рефлексия здесь, конечно же, не случайна), которая единственно, подобно Эвридике, может быть смутно нащупана в ночных скитаниях письма по литературному пространству.
Работы эти, имея на протяжении 50 — 60-х годов карт-бланш от издателей, Бланшо регулярно, практически в каждом номере, публикует на страницах самого популярного “толстого” журнала Франции NRF — Nouvelle Revue Franfaise. По свидетельству самих заинтересованных лиц, на этих остававшихся вне определявшейся в те годы в основном Сартром магистральной линии развития французского критического дискурса статьях, исподволь оказывавших едва ощутимое, но огромное влияние на сложение новых литературных парадигм, выросло целое поколение “властителей дум”, от Фуко и до Деррида. [9] Ср. в этой связи характерное признание Жака Деррида: "К Батаю и Бланшо приходили через Сартра, а читали их Сартру в противоход" (цит. по: D. Eribon. Michel Foucalt, Flammarion, 1989, р. 79). Там же приведена и фраза Фуко: "В то время [50-е годы] я мечтал быть Бланшо". Что касается Деррида, постоянно подчеркивающего, сколь многим он обязан Бланшо, и посвятившего его прозе целый ряд важнейших работ (см. об этом ниже), то до сих пор недооценено огромное, основополагающее влияние теоретической мысли Бланшо на выработку его основных концепций (так, например, даже сведение счетов с "фоноцентризмом" в "О грамматологии" идейно восходит к старой работе Бланшо о Рене Шаре: M. Blaunchot. La bète de Lascaux, NRF, п. 4, 1953; в дальнейшем дважды переиздавалось отдельной книгой).
Из этих работ и составлены основные, самые влиятельные книги Бланшо, главная тема которых — бесконечное углубление в одиноких поисках Эвридики-произведения в сумеречный мир литературного пространства, покоящегося, как и Гадес, на возможности смерти. Своего рода вехами, ориентирами, способными помочь не затеряться в зовущем к блужданию пространстве прозы Бланшо, представляются четыре текста, которые служат соответственно центрами четырех обустроенных самим писателем остановок на его бесконечном пути, его книг “Огню на откуп” (1949), “Литературное пространство” (1955), “Грядущая книга” (1959) и “Бесконечная беседа” (1969); эти, по счастью существующие в русском переводе эссе [10] См. соответственно НЛО, № 7, 1994 (пер. С. Зенкина), приложения к книгам Бланшо “Ожидание забвение” (Амфора, 2000) и “Последний человек” (Азбука, 1997) и Комментарии, № 11, 1997. (Касательно роли этих текстов, ср. с авторской преамбулой к “Литературному пространству”: “У книги, даже фрагментарной, есть некий влекущий ее к себе центр: центр не закрепленный, а перемещающийся под давлением книги и обстоятельств ее сочинения. Центр также и незыблемый, который перемещается, если он настоящий, оставаясь все тем же и становясь все более и более центральным, более потайным, более сомнительным и в то же время властным. Тот, кто пишет книгу, пишет се в желании, в неведении этого центра. Ощущение, что его коснулся, вполне может оказаться всего-навсего иллюзией, будто до него добрался; коли речь идет о книге разъясняющей, своего рода верность методу требует сказать, к какой точке, кажется, книга направлена; здесь — к страницам, озаглавленным ‘Взгляд Орфея’.”)
— “Литература и право на смерть”, “Взгляд Орфея”, “Пение Сирен” и “Отсутствие книги” — служат одновременно его прозе своеобразным авторским послесловием (или ино-сказанием), еще одним, обогащающим ее пространство измерением…
Читать дальше