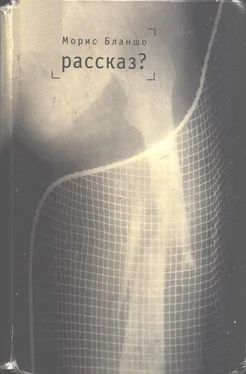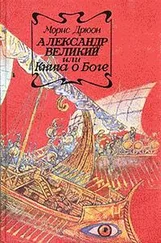Задача, в случае Бланшо, практически по всем этим пунктам невыполнимая, причем причины ее невыполнимости по отдельным пунктам странным образом усиливают друг друга: действительно, как познакомиться с автором-отшельником, который выстроил всю свою жизнь вокруг "исчезновения автора в изложении” (Малларме); биография которого полунеизвестна, полудискуссионна; корпус рассматриваемых текстов до сих пор по сути не освоен критикой, чьи оценки являют собой верх субъективности, а наиболее яркие трактовки облечены подчас в беллетристические формы?
Но основная причина носит неожиданно субъективный, дважды субъективный характер.
"Говорить о Морисе Бланшо можно, только говоря о ком-то другом — о его читателе, о самом себе. Да, о нем можно говорить, только разбираясь в самом себе, ибо бесконечная скромность призывает к бесконечному бесстыдству ”. (Бернар Ноэль). [1] R.Laporte, В Noel. Deux lectures de Maurice Blanchot, Fata Morgana, 1973, pp. 53–54.
Да, позиция автора, сознательно и последовательно стирающего свое личностное присутствие и из своих произведений, и вообще из сферы публичности, на протяжении без малого полувека ведущего отшельнический образ жизни, неминуемо ставит под сомнение правомочность говорить о нем в общепринятом тоне: оглядка на биографию начинает казаться чуть ли не кощунством, попытки реконструировать творческую историю текста — верхом бесцеремонности; сомнительность настигает даже сам статус направленного на подобный предмет критического письма (симптомом чему и служит упоминавшаяся выше его беллетризация). Преодоление навязанной скромностью скованности непременно оставляет ощущение индивидуального риска, балансирования на грани, которую не стоит переступать, темы, которой лучше не касаться; ощущение предельно субъективное, но не становящееся от этого слабее. И даже, к примеру, совершенно замечательная во всех отношениях книга (определяющая себя в подзаголовке как “опыт биографии”) Кристофа Бидана [2] С. Bident, klaurice Blanchol, ип partenaire invisible. Champ Vallon, 1998
(без отсылок к которой просто невозможно впредь писать о Бланшо и о которой, конечно, еще пойдет речь) все же оставляет — для меня, — особенно в частях, привносящих биографические мотивы в рассмотрение прозы писателя, ощущение какой-то не до конца проясненной неловкости, рискну сказать неэтичности — по отношению не столько даже к писателю, сколько к его тексту, к которому он имел волю себя свести, к его “беллетристике”, [3] За непереводимостью на русский французского (и английского) слова fiction, для обозначения “художественной литературы” мы будем пользоваться этим несколько легкомысленным словом.
которая из-за его позиции становится куда более беззащитной, уязвимой.
И тем не менее, пусть и в общих чертах, биография… [4] Капитальное исследование Бидана представляется в этой связи незаменимым; следует отметить не только проведенную ее автором огромную работу по сбору фактического материала, но и тонкость его анализов, взвешенность оценок, наконец, сродственную своему предмету изощренность (подчас излишне барочную) стиля. Судя по появившемуся в периодике переводу глав из этого труда (Логос, № 4, 2000, стр. 134–159; пер. С. Дубина), можно ждать и его русского издания — несколько опережающего события на фоне общей рецепции творчества Бланшо в России.
Во-первых, смущающая критиков фиктивная (снова fiction), провокативно просвечивающая сквозь смутную череду интимно описываемых от первого лица событий из его прозы, во-вторых, фактическая, заключаемая им в скобки… Как ни странно, на склоне дней Бланшо то и дело сам обращается в иногда становящихся общественным достоянием обрывочных воспоминаниях к фактам своей биографии — ничуть себе при этом не изменяя, ибо воспоминания эти проходят под знаком встреч, [5] “Значение для меня имели встречи, когда случай становится необходимостью. Встречи с людьми, встречи с местами. Моя биография в этом” (“Les rencontres”, Le Nouvel Observaleur, n° 1045, novembre 1984, p. 84).
дружбы, каковая, как хорошо известно, играла в жизни Бланшо совершенно исключительную роль. Собственно, дружбой и измеряет он сам свою подлинную биографию: в том же автобиографическом наброске Бланшо перечисляет имена тех, встречи с кем оказали решающее воздействие на его жизнь: Эммануэль Левинас, Жорж Батай, Рене Шар и Робер Антельм. Но постороннему — читателю невозможно и, боюсь что нежелательно следовать частностям сугубо интимного — куда интимнее сексуального — дружеского общения; это не случай, скажем, Гурджиева с его “встречами” с “замечательными людьми”. Мы можем измерить внешнее, или, скажем, интеллектуальное, значение этих “встреч” — но давайте забудем при этом о дружбе. Осознаем лишний раз, что через Левинаса Бланшо еще в конце 20-х познакомился с революционной в ту пору мыслью Гуссерля и, особенно, Хайдеггера, вместе с Батаем познал неминуемость преступания в своем внутреннем опыте через любые пределы; ведомый примером Шара, прошел путь от бесконечно одинокого (см. об этом в “Том, кто не сопутствовал мне”) углубления в литературное пространство до осознанной политической ангажированности; вместе с Антельмом, наконец, (и вместе с Дионисом Масколо) пережил опыт Освенцима. И не забудем, что для него самого в счет было не это, а именно дружба, знаки которой боязливо рассеяны по страницам его критики. [6] В первую очередь см. посвященный памяти Батая текст “Дружба”, давший название одноименному сборнику статей: М. Blanchot. L'Amilie, Gallimard, 1971, pp. 326–330; рискну также отослать по всему связанному с биографией Бланшо кругу вопросов к собственному послесловию в книге: М. Бланшо. Мишель Фуко, каким я его себе представляю, СПб., Machina, 2002, стр. 75–93.
Читать дальше