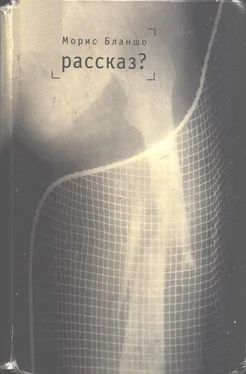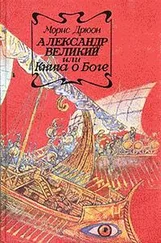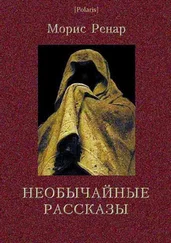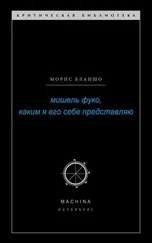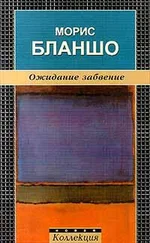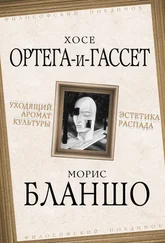С другой стороны, следствием этих новых отношений является признание невозможности или, как минимум, недостаточности любого метаязыка: у Бланшо и литературный, и философский метаязык если и не уничтожен, то безвозвратно погружен, растворен в самом исходном дискурсе (ср. ниже: рассказ — отнюдь не отчет о событии, но само это событие), саморефлексия достигла новой стадии — как в “Безумии дня”, где невозможность — безумие- метарассмотрений предстает зримостью зримости. В частности, это приводит к отказу от разработки новых философских понятий и нежеланию работать с исторически сложившимися; [15] Не зря одна из монографий о нем названа “Отказ от философии”.
Бланшо предпочитает использовать философские прото-понятия странным образом слитыми воедино с тем, что, по мнению философов, является метафорами (чаще всего связанными с пространством и зримостью; безусловно ключевыми, сквозными являются для него обеспечивающие пространство зримостью день и ночь — о восприятии которой как фундаментальной философской категории заговорили только в новом веке), [16] М. Zarader. L'etre et le neutre, Verdier, 2001. Ср. также с концептуализацией Левинасом понятия лица.
— и, двигаясь в обратном направлении, сращивает персонажей своей прозы с метафизическими сущностями, такими как мысль, речь, присутствие и т. п. [17] Эти метафизические “гибриды” странным образом напоминают пневматических персонажей “Бафомета” Пьера Клоссовского.
Возникающий тем самым сугубо индивидуальный, принципиально отличный от конвенциализированных тезаурус, в частности, заключает в себе (еще одну!) сложность Бланшо для перевода: переводчик должен знать “родословную”, сиречь историю вхождений многих, казалось бы, достаточно банальных слов в органически произросший корпус его текстов, как критических, так и беллетристических; каждое повторяемое слово связано здесь, как правило, с целым комплексом идей — но не вписано в систему, поскольку Бланшо использует “живые”, не заструктуренные в систему слова — паутину, а не кристаллическую решетку.
Не следует удивляться, что из-за разнонаправленности ее векторов усвоение этой мысли в каждой из трех плоскостей шло своим путем. Если подчас рядящиеся в формы чуть ли не рецензии, передающие опыт его чтения критические статьи писателя воспринимались в реальном времени, то уже общетеоретические, на пограничье между литературой и философией размышления о факте существования и, скажем, онтологической привязке литературы начали адекватно восприниматься только с упадком классического французского структурализма, во многом имплицитно от них отталкивавшегося, а собственно философская мысль Бланшо и вовсе долго как таковая не воспринималась, выйдя на авансцену лишь вслед за волной признания, запоздало настигшего к началу 80-х философскую систему Левинаса, с которой ее многое роднит и в тени которой она поначалу и рассматривалась. [18] В развитие этого тезиса написана и первая (и на долгие годы если не единственная, то основная) монография о Бланшо: F. Collin. М. Blanche! el la question de l ecrilure, Gallimard, 1971 (nouvelle edition, coll “Tel”, 1986). To, что отдельные тексты “Бесконечной беседы” (/. Entretien inlini, Gallimard, 1969) содержат рассуждения, по сути дела тонко дифференцирующие при всем их сходстве мысль Бланшо от системы Левинаса, стало осознаваться философской критикой только во второй половине 90-х годов; вообще же чуть ли не первым серьезным исследованием, посвященным философии Бланшо (в ее сравнении с системами Гегеля, Гуссерля и Хайдеггера) стала книга М. Zarader. L etre el le neulre. Verdier, 2001.
Проза же, оказывающаяся, если верить вышеприведенным словам писателя, своего рода авангардом, форпостом — или фронтиром — блуждающей в неизвестности мысли, надолго осталась камнем преткновения для литературной критики.
"…в рассказах Бланшо мы касаемся тайны независимо от нашего понимания, поскольку этой тайне принадлежим и в нас ей принадлежащее остается […] для нашего разума неуловимым […] Искусство Мориса Бланшо состоит, стало быть, в том, чтобы вовлечь какую-то часть нас самих в отношение с тем, что он говорит. Читая то, что он нам говорит, мы этого не понимаем, мы (вос)принимаем в себя в меньшей степени, чем сами уже приняты в его фразу". (Пьер Клоссовски). [19] P. Klossowski. Un si iuneste desir, Gallimard, 1963, p. 168.
Как подступиться к подобному произведению и подобному творчеству? Эти вопросы, естественно, встали перед французской критикой отнюдь не сегодня и не вчера. И быстро выяснилось, что традиционная критика, “литературоведение”, к встрече с ним не готова: с той же легкостью, с которой отступил в тень, уйдя в 50-е годы с горизонта публичности, сам Бланшо, уклоняется от всех общепринятых рубрик и классификаций и его творчество, постоянно оставаясь за гранью, отделяющей литературу проявленную, поддающуюся традиционному позитивистской выделки анализу, от литературы, пребывающей потенциальной, недоступной сегодня безжалостно мертвящему свету общепринятой истины. С легкой руки кого-то из газетных критиков, переиначившего название первого романа писателя в своей статье “Темный Бланшо”, темнота его произведений стала общим местом, темнота, которая во всех его текстах, но особенно в прозе, не поддается никакому прояснению. Конечно, в самом “генотипе” текстов грядущей “эпохи общего кризиса Комментария” (Р. Барт) вписаны защитные механизмы, предохраняющие их от высвечивания и стратификации смыслов, но даже на их фоне уступчивая неподатливость текстов Бланшо не может не впечатлять.
Читать дальше