Потом дело идет легче, внимание обостряется. Ну, разве Баратынский, этот мрачный и проницательный поэтический соплеменник Пушкина, не прав:
«Пусть заменит ее другая:
Не явствует земле ущерб одной,
Не поражает ухо мира
Падения ее далекой вой,
Равно как в высотах эфира
Ее сестры новорожденный свет
И небесам восторженный привет!»
Строфа 16 из элегии «Осень», 1836/ 1837. Хорошо, что никто не заглядывает через плечо. Хорошо, что советская цензура не посягает на старых поэтов, вымарывая из них то, что на революционном жаргоне называется «декадентским пессимизмом». Вот такие строки, например:
«О, тягостна для нас
Жизнь, в сердце бьющая могучею волною
И в грани узкие втесненная судьбою».
Выглядят ли посетители библиотеки вокруг меня несчастными? За книгами сидят и пенсионеры, может быть, сбегая в другую (лучшую) действительность, или потому, что в их коммуналках холодно и шумно. Мы улыбаемся друг другу иногда как хорошие знакомые, в конце концов, мы проводим здесь много времени. Старики одеты бедно, у них не хватает зубов, но вид сосредоточенный. Когда читают или исписывают, склонившись над столом, листки бумаги. Им тоже приходится делать выписки. С этой добычей они вечером, радостно или нет, идут домой. Чтобы завтра утром прийти сюда снова. Их жизнь протекает между книжными страницами, в то время как они спадают с тела.
Пенсионеры тощи, библиотекарши объемисты: полногрудые, ярко накрашенные, с обесцвеченными, высоко взбитыми волосами. Понятно, у кого право голоса. Причем такие амазонки встречаются и среди гардеробщиц, продавщиц, поварих в столовой, сытые, с истерическим налетом (пронзительные голоса).
В общем и целом, здесь живется хорошо. Как на острове. Снаружи уличное движение, дождь, слякоть и прочие неприятности, внутри – мир духа, который безмолвно предлагает нам другие, лучшие тревоги. Я листаю оригинальные издания и старые журналы (одна только бумага и типографский шрифт уже приводят в восторг), имена оживают. Так начинается диалог. Он такой же реальный, как тот, что я веду с Галей, нет, гораздо глубже. И конца ему не видно.
Доброе утро, пушкинская плеяда, добрый вечер. Эпистолы, эпиграммы, элегии, посвящения. Баратынский – лишь один из этого дружеского круга, самая сумрачная звезда. Но та звезда, за меланхолическим шлейфом которой я следую как волхвы за звездой Иисуса.
«На что вы, дни! Юдольный мир явленья
Свои не изменит!
Все ведомы, и только повторенья
Грядущее сулит».
Когда включают настольные лампы и раскидываются их световые конусы, возникает отрадное чувство разобщения. Каждый штудирует свои книги, взгляды не скользят вокруг. А ухо, напротив, воспринимает все четче: шелест газетных страниц, чиханье, скрип пера.
Зал полон уже лишь наполовину, что-то молитвенное разлито в воздухе. Пахнет затхлостью, пачули и клейстером.
Хорошо бы, конечно, остаться подольше, будь спина и голова посвежее. И желудок полон.
Ухожу. Почти семь, Екатерину Великую уже подсвечивают.
Мне нужно только пересечь Невский и я в Малом зале филармонии. Афиши – чистейший соблазн: Святослав Рихтер дает сольный фортепианный концерт, Бах, русский струнный квартет играет Моцарта и Шостаковича, барочный ансамбль исполнит Вивальди, Корелли и т. д. Цена: два с полтиной, пустяки. Я забываю о голоде, мужественно встаю к кассам. И по большей части мне везет. Сижу, как на ангельских крыльях, на красном бархате кресла, звучит музыка. Превосходно, превосходно сыгранная музыка.
Бах Рихтера словно из других сфер. Космических, как сказал бы Баратынский. Где правят объективные, а не субъективные законы. Дыхание замедляется, сердце начинает биться спокойнее. Я вижу человека, его неподвижное лицо, ясные жесты в служении музыке Баха. Можно было бы назвать это самозабвенностью, если бы в каждом звуке не крылась наивысшая дисциплина: так и не иначе. В любом случае в мастерстве не заметно ни малейшего усилия. Оно источает естественный, природный покой. Как и подобает музыке Баха («ad maiorem Dei gloriam»).
Молодая публика, захвачена целиком.
Рихтер – отстраненный, «отсутствующий» – принимает букеты цветов, которые ему подносят, и стремится наклоненным корпусом с подиума, словно у него только одно желание: после выполненной работы исчезнуть, раствориться. Нелюдимый медиум, материализовавший музыку Баха («Хорошо темперированный клавир», том 1 и 2).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу



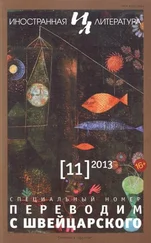


![Станислав Сергеев - Памяти не предав - Памяти не предав. И снова война. Время войны [сборник litres]](/books/388335/stanislav-sergeev-pamyati-ne-predav-pamyati-ne-pred-thumb.webp)





