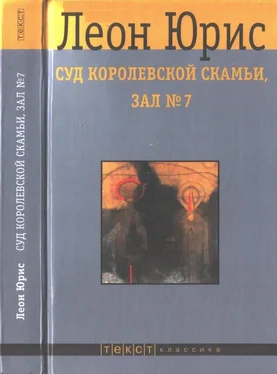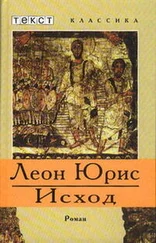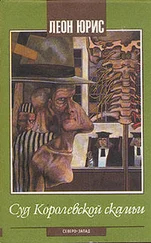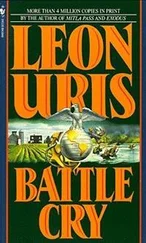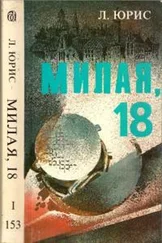Томас Баннистер поправил мантию, и в его голосе зазвучали тонкие баховские контрапункты.
— «Человека невозможно заставить это делать, — сказали бы вы. — Германская армия состоит из людей, пришедших из контор, с заводов и фабрик. У них есть свои дети. Никто не заставит людей, у которых есть дети, загонять других детей в газовые камеры…» И если бы помимо всего этого кто-нибудь предположил, что людей могут использовать в роли подопытных животных, что у них будут на их собственных глазах удалять половые органы в ходе экспериментов по массовой стерилизации, опять-таки мы бы с вами сказали — не правда ли? — что это невозможно. Больше того, мы бы с вами сказали: «Это должны были бы делать врачи, а таких врачей, которые согласились бы это делать, никогда не найти».
Так вот, мы бы с вами ошиблись. Потому что все это происходило — все! И нашелся врач, польский врач-антисемит, который это делал. Из показаний видно, что он занимал руководящий пост и пользовался авторитетом. Вы слышали, как доктор Лотаки сказал, что если бы доктор Кельно отказался, то отказался бы и он.
Мы бы ошиблись, думая, что это не может произойти, потому что существует целое мировоззрение, которое поддерживает и оправдывает то, что происходило. Это чудовищное мировоззрение — антисемитизм. Те из нас, кто не принадлежит ни к какой религии, ставят на первое место разум, но все мы, верующие и неверующие, имеем некое представление о добре и зле. Однако стоит только вам позволить себе допустить, что какая-то группа людей из-за их расы, или цвета кожи, или религии на самом деле не может считаться людьми, — как вы получаете оправдание любым мучениям, которым их подвергнете. Эта уловка оказывается особенно кстати вождю нации, которому нужен козел отпущения, кто-то, на кого можно свалить вину, когда что-либо идет не так. И тогда вы можете взвинтить народ до истерики, убедить его, что это не люди, а просто животные, — ведь животных мы убиваем точно так же, как убивали заключенных в концлагере «Ядвига». И газовые камеры были логическим завершением этого пути.
Все сидевшие в зале слушали, как завороженные.
— Мы бы ошиблись, — гремел Баннистер, — потому что, если бы кто-то приказал британским войскам загонять в газовые камеры детей и стариков, не сделавших ничего плохого, кроме того, что они были детьми своих родителей, — то можете ли вы себе представить, чтобы британские войска не подняли бы тут же мятеж против тех, кто отдал такой приказ? Нет, конечно, нашлись некоторые немцы — солдаты, офицеры, священники, врачи и простые граждане, которые отказывались выполнять такие приказы и говорили: «Я не стану это делать, потому что не хочу жить, имея это на своей совести. Я не буду толкать их в газовую камеру, а потом говорить, что выполнял приказ, и оправдываться тем, что иначе это все равно сделал бы кто-нибудь другой, что я не могу этого остановить, а другой толкал бы их в газовую камеру еще более жестоко, поэтому в их же интересах, чтобы я толкал их туда не так грубо». Но все дело было в том, что таких людей оказалось слишком мало.
Так вот, читатели могут воспринимать этот абзац в этой книге по-разному, и тут возможны три различных подхода. Возьмем, например, лагерного охранника-эсэсовца, которого после войны повесили. Этот эсэсовец-охранник сказал бы в свою защиту: «Позвольте, но я был призван в армию и попал в СС, а потом в концлагерь, не зная, что происходит». Конечно, он очень скоро узнал, что происходит, и будь он британским солдатом, он поднял бы мятеж. Я не говорю, что этих эсэсовцев-охранников после войны следовало отпустить на свободу, но если мы поставим себя на их место, на место призванных в гитлеровскую армию, то согласимся, что виселица — это было, пожалуй, немного слишком.
Теперь второй подход. Должны были найтись люди, которые пошли бы на риск серьезного наказания или даже смерти, отказавшись выполнять подобные приказы, потому что это наш долг перед будущими поколениями. Мы должны сказать нашим потомкам: если это случится снова, вы не сможете оправдаться тем, что боялись наказания, потому что рано или поздно для человека наступает такой момент, когда сама его жизнь теряет смысл, если она предполагает необходимость калечить или убивать других.
И наконец, третий подход состоит в том, что это был вообще не немец, а наш союзник, в чьи руки была отдана власть над жизнью других наших союзников.
Мы знаем, разумеется, что врачам из заключенных тоже грозило наказание. Но мы узнали также, не правда ли, что заключенные работали в медчасти и что одного из них, доктора Адама Кельно, немцы особенно ценили, да и сам он считал себя их сотрудником. Никто не сможет нас убедить, что германский медик стал бы рубить сук, на котором сидит, уничтожив самого полезного своего помощника. И мы знаем, что приказ перевести этого самого ценного врача в частную клинику исходил от самого Гиммлера.
Читать дальше