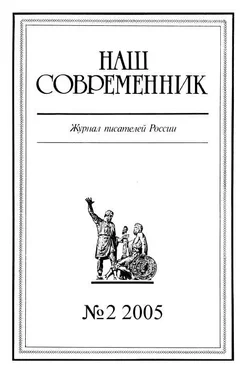Для Ге такие, например, понятия, как «красота» и «сила», взятые сами по себе, существовали только как «идеалы, поклоняющиеся физической силе, чувственности». «Духовное ценно, — настаивал он, — телесное — временное, преходящее». Его идеал красоты ассоциировался непосредственно с образом Христа, что и обуславливало отношение художника к искусству как «духовному занятию». Потому и высшей похвалой для себя признавал оценку его картины как «умственной и нравственной работы». Содержание же этой работы определялось для Ге его пониманием задачи или цели художника — «не усиливать царящий мрак жизни, а по возможности рассеивать его».
Но сложность натуры Ге характеризуется не только высотой духовных помыслов. «Сердце и голова у него, — отмечал еще Стасов, — не всегда сходились и иногда бывали у него в довольно значительном разладе». Разлад этот проходил не между природной мягкостью и даже кротостью Ге, с одной стороны, и необычайным темпераментом, страстностью его кисти, с другой. Нет, речь идет о своеобразном сочетании в сознании Ге его безусловно глубокой религиозности и откровенной рассудочности, рациональности. Последнее существовало в нем не как черта характера, то есть в обыденном понимании, но как качество, определявшее его восприятие Христа.
Как известно, библейские и евангельские сюжеты, наряду с мифологическими и собственно историческими, объединялись в то время в единое понятие «исторический жанр», или историческая живопись, именно так понималась она и самим Н. Ге, попытавшимся вслед за А. Ивановым синтезировать в образе Христа историзм и религиозность. «Истинно историческая живопись, — считал он, — должна быть непременно религиозной, точно так же как религиозная не может не быть исторической». И далее Ге произносит ключевые для него слова: «И такая религиозная живопись становится не только обширною в своем ГУМАНИСТИЧЕСКОМ ЗНАЧЕНИИ (выделено мною. — М. П.), но и крайне необходимой для общества». В принципе, в подаче Христа как исторического лица никакой новизны нет, точно так же, как и в самой гуманизации его образа. Явление, к тому времени достаточно распространенное и в общественном, и тем более в художественном сознании. Но стоящий на позициях историзма Н. Ге идет дальше и впервые в русском искусстве декларирует «гуманистическое значение» религиозности.
Отсюда и естественный пересмотр Н. Ге цели религиозного искусства. Если В. Васнецов и М. Нестеров черпали свое вдохновение в иконописи, то, в отличие от них, Ге видел свою цель не в поддержании, как он считал, созданных предрассудков, а в «радикальнейшем искоренении всех фетишей и низвержении кумиров». Критерием же формирования столь радикальной программы становится для Ге не святоотеческое благочестие, но «дар и разум. Ведь это компас, — писал он, — без которого никуда не годишься».
Этот «компас» вел художника по всему евангельскому циклу, начиная с самой первой его картины «Тайная вечеря». В центре ее — не сакральный момент откровения таинстве тела и крови Христовой, а жизненная драма, в основе которой — «разрыв между одним учеником и любимым учителем, тот разрыв, который совершается среди нас из рода в род, из века в век»; так формулировал идею картины сам автор.
Вообще темы самопожертвования, милосердия и сострадания, душевного благородства и печали по неправде и насилию, собственно, и привносили в картины цикла ту религиозность, как понимал ее сам художник, то есть пронизанную главной заповедью Спасителя: «Да любите друг друга». Но при этом «истинной любовью» Ге называл «равнодушную любовь», которая включала в себя «полное участие, полную привязанность», но исключала страсть. «Страсть, — писал он, — есть требование тела, чувства, а не мысли, а я понял разумную любовь». Такая любовь, проистекавшая не из сердца, но из мысли, уравнивавшей понятия «истинная», «равнодушная», «разумная», питала и веру художника, что и придало его религиозной живописи то самое «гуманистическое значение», о котором он сам и говорил. А в результате красной нитью практически через весь цикл пройдет новый, сотворенный художественной и философской мыслью Ге образ «гражданского Христа» (Л. Н. Толстой).
В поисках нравственной истины, идя своим путем в искусстве, пропуская через себя самые животрепещущие, самые больные вопросы современной ему жизни, художник создает в 1890 г. «Что есть Истина?» — произведение, названное Толстым главной его картиной. А спустя почти сто лет ее назовут даже самой загадочной из всех работ Ге. Выдвинувший этот тезис один из ведущих отечественных историков искусства Г. К. Вагнер считал только одного человека приблизившимся, как ему казалось, к решению вопроса, вынесенного Ге в заголовок своего произведения — «Что есть Истина?». Речь идет об авторе статьи, опубликованной тогда же в бостонской газете в связи с экспонированием в начале 1890-х годов картины в Америке. «В чудных глазах Спасителя, — писал журналист, — сияющих лучом Всевышнего, каждый, умеющий читать, прочтет ответ на вопрос гордого римлянина. Истина стоит перед ним и высказывается в свете этих глаз».
Читать дальше