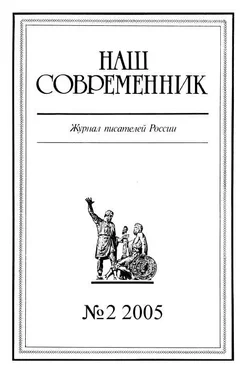Психологическая окраска образа Христа предельно сдержанна. Внутренне сосредоточенный, он закрыт для Пилата, который, напротив, достаточно откровенен в своем эмоциональном проявлении. Снисходительный и ироничный, он не слышит Христа, чьи слова об Истине тонут в самодовольстве правоверного римлянина. Купаясь в лучах реального света, трезвомыслящий Пилат не воспринимает того, кто стоит перед ним. С дородным лицом и тупым затылком, он преисполнен сознания собственного превосходства. Ведь за ним не только государственная и военная сила, но и высокая античная культура с непререкаемым для него авторитетом великих мыслителей эпохи. В своих философских откровениях они выстроили логически стройную и ясную картину мира. В их умозрительных образах, рожденных аналитической мыслью, открывалась та самая истина, что высекалась, как искра, на философском камне, освещая все вокруг своим немеркнущим светом разумного знания. Для просвещенного Пилата все прочее — суеверие и сектантство. И потому в его руке, зависшей в воздухе, нет энергии действия. Вопрошающий жест не приглашает к диалогу.
Но и Христос, развернутый в сторону Пилата, тем не менее смотрит не на него, а через него, погруженный в собственные раздумья. В отличие от гордого патриция, его образ полон тишины и отрешенного спокойствия, о которое разбивается римская самоуверенность, не в состоянии превзойти, превозмочь силу мысли о бренности и суетности власти от земли.
В художественной трактовке образа Христа сказалось не только авторское понимание евангельских образов, но и сложившееся благодаря им собственное представление Н. Ге об истинном назначении художника вообще. Еще в 1864 г., вскоре после окончания работы над «Тайной вечерей», он пришел к выводу, что «дело художника не бороться. Он по преимуществу мирный человек, он заботится сохранить то, что ему дороже всего — его идеал». Это художественное кредо Николая Ге и определило в картине психологическую характеристику Христа, в которой программно воплощен исповедальный образ художника-творца.
При всей внутренней разобщенности героев картины и жест Пилата, и направленный взгляд Христа в своем встречном движении образовали своего рода замок, прочно скрепивший композицию, в которой оба они оказались в неразрывном единстве. Возникшее пластическое решение, отразив историческую перспективу, в которой их имена всегда вместе, одновременно открыло, и, кажется, помимо воли самого художника, второй план воссозданного им противопоставления.
В понимании Ге его герои олицетворяют «два начала». С одной стороны, «Пилат, боготворящий физическую силу», что выступает здесь символом естества, материи, земли, наконец, а с другой — Христос как «существо убеждений». И следовательно, не что иное, как «убеждения», декларируются мастером в качестве источника силы Христа в его смирении. И здесь также проявилось сугубо личное понимание сакрального, суть которого определялась самим художником в соответствии с его собственной иерархией ценностей. Сама же иерархия, а главное — ее вершина выстроились в сознании Ге уже давно. В письме к одному из своих друзей тогда двадцатишестилетний художник прямо заявил: «… нельзя заподозрить меня в равнодушии и тем более в отрицании самого дорогого, что есть в человеке, убеждения». С молодых лет исповедуя эту идею, он был предан ей всю жизнь. «…Лучше в лишениях окончить, — писал он через 25 лет, — но не изменить своей вере и своих убеждений». И даже на склоне лет для художника, пережившего душевную боль и горечь не только от недоброжелательной, как ему казалось, критики, но и официального неприятия и регулярного (!) изгнания его религиозных произведений с выставок, эта гуманистическая ценность оставалась незыблемой, и именно ею, как наивысшей для себя, он и наделил своего Христа.
В одном из писем к своему духовному наставнику Льву Толстому он признавался: «Я согласен с Паскалем, что привязываться к человеку не следует, привязываться к Богу нужно и должно, но я этого так ясно не понимаю». В этой фразе уже слышна подспудно ощущаемая несогласованность, чтобы не сказать — противоречивость богоискательского пути художника, что и приводило, говоря словами Стасова, к «разладу» «головы и сердца». И не только у одного Ге.
«Если нет высшего разума (а его нет, и ничто доказать его не может), — писал Толстой, — то разум есть творец жизни для меня». Но такой вывод, точно так же, как и в случае с Ге, не приносил ясности, а только еще больше заводил в тупик. В поисках выхода из него Толстой, превозмогая «ошибки разумного знания», хотя и пришел к осознанию Бога как начала не только веры, но и «всего человечества с его разумом», тем не менее стремился, а вслед за ним и вся расцерковленная интеллектуальная элита, все же к такому пониманию, «чтобы всякое необъяснимое положение представлялось мне как необходимость разума же, а не как обязательство поверить».
Читать дальше