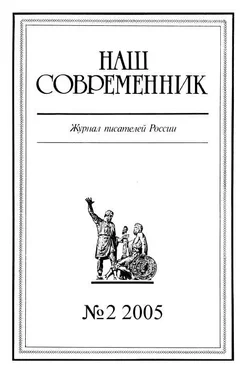К тому же мы знаем: был ведь и у Сибири свой древний стольный град, даже с кремлем на высоком холме, как раз на диком бреге Иртыша. Чем не святыня, если кто там и вырос, на этом клочке земли с его изначально эпохальной задачей.
Дети вольной Сибири её любили. И как ни загадочно, как кому ни досадно или прискорбно для кого-то возвращение обласканного Питером поэта Ершова домой, на восток, а здесь снова проявилось что-то знаменательное. Это был не отъезд назад, а побуждение настойчиво вглубь, настойчиво вперёд.
Впрочем, без Сибири и «Горбунка» не поймёшь, а не только ершовского житейского пути. Ведь не ухватить же без постижения Сибири и общерусского размаха?
* * *
Кто понять поэта хочет —
Поезжай в его страну.
Гёте
Похваляя Петра Ершова с Дмитрием Менделеевым (это с ним придется встретиться поэту, чтобы ощутить внутреннее, душевное, а под конец вступить и в чисто семейное родство) — похваляя их, не забудем похвалить родной им край. Да он и нам родной, и каждый согласится, что в добрых словах родному лишнего никогда не бывает.
А край этот не только великий, но и сказочный. Страной-сказкой назвал когда-то великий норвежский романист Кнут Гамсун нашу Россию; а что же сказал бы он про Сибирь, случись ему побывать и там?
Конечно, любое доброе прошлое сказочно. Но если сейчас кажется сказкой, за шестидесятилетней давностью дела, наше собственное детство на Тоболе, то что сказать о более давнем?
Во время войны, в избе без электричества… Но даже и при свече, а мы то и дело с книжкой Ершова в руках или слушаем «Конька-горбунка» из уст бабушки и матери. Конечно, не «Конёк» был тогда главным героем. Сестра выводила в тетрадке «Ползёт, подползает кровавая птица к Москве-столице. Но мы не пустим кровавую птицу к Москве-столице». Как было не подсматривать: ух ты — пишет сама! И когда хотелось узнать, кто это «мы» (не она и не мальцы же), мать разъясняла: «Ну, отец; ну, дядя Игнат — они ж сибиряки…» А если отсчитать назад ещё пару поколений, то не дивом ли дивным была уж подлинная сибирская старина, сибирская вольница и сибирская ширь?
От мест давно обжитых или от тех, которые тогда обживались не у нас и поэтому совсем не по-русски хищновато, край наш лежал
За горами, за лесами,
За широкими морями
и был размерами не меньше иных материков; а ведь были, были такие и люди-сказки , кому даже сама эта огромность была нипочём? Например, не зимниками ли, без железных дорог и мостов, покрывали с обозами немыслимые расстояния ещё наши прародители? Дед Арсен Стенников в Тобольск, дед Исидор Ситников в Томск и Красноярск…
Братья сеяли пшеницу
да возили в град-столицу:
знать, столица та была
недалече от села…
М-да, недалече… В северный Тобольск — чуть ли не из киргизских степей, в Томск и Красноярск — из Минусы. Кстати, продавали, покупали, меняли и лечили там и добрых коней…
Деньги счётом принимали,
И с набитою сумой
Возвращалися домой.
А на долгих переходах — песня. Не казачий, конечно, «Гвоздик» — это шутка стариков, что одно слово можно было растянуть от «гэ» до «ка» на сотню верст и перепеть на разные лады тыщу раз. Но, скажем, что-нибудь как у Ершова в «Горбунке»:
Как по морюшку, по морю, по широкому раздолью,
Как на самый край земли выбегают корабли…
Вот это уже было искусство всерьез — только не сольное, а хоровое. Огромная разница! И не слабее, чем шаляпинское эмигрантское «Вниз по матушке по Волге» в сопровождении хора девушек-ветеранок из питерских или врангелевских батальонов смерти… А на долгожданных ночёвках у костерка, под зародом или у какого-то на полатях — опять же песня, сказка или порою даже былина… Или ещё, ещё много раньше — не сказочное ли дело было за всё это землепроходство взяться? Первым на Руси на всё это вызваться? Начать с ничего, только при коне и пике, при топоре и пищали, при балалайке и песне обживать землю от Урала до Забайкалья?
На плотах и ладьях переходили великие реки. С вьючными караванцами переваливали, изнывая от гнуса-мошки, через могучие хребты. Достигали неведомых морей-окиянов, что северного, что восточного —
на котором белый вал
одинёшенек гулял…
(Эх, а как и здесь спето-то…) Корчевали непокорный лес, рубили ладные крестовые дома и пятистенки. Шишкарили в кедровниках, копали целебные чудо-коренья. По заимкам и зимовьям расходились на тяжкую пахоту, на доходное пчеловодство и охоту. Резали по мамонтовой кости, выделывали кожи и меха. Ватные телогрейки пришли, в известных условиях, несколько позже, с миром бараков — а прапраотцам казались сподручнее тулуп и доха, да и было из чего их кроить, не говоря о том, что и морозы были тогда ой-ёй-ёй. Но описывать ли тогдашнее изобилие зверя, что обеспечивало и мясом, и пушниной? Причём «Миша» — этот Миша-то, хозяин тайги, был на деле крут. Да он и сейчас ох как не кукольно-мягок, а тяжёлый лось-сохатый ох как может потоптать, а росомаха ох как свирепа, а куницу-соболя-горностая ох как непросто добыть даже искуснику, стрелку-следопыту.
Читать дальше