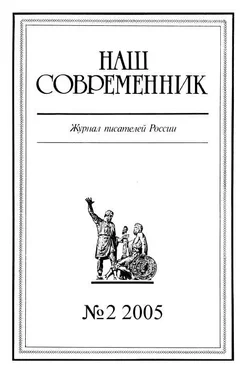Поразительна точность прогноза: всё то, о чём мы сегодня с болью говорим — о попытках «смены» духовных координат народа, — может твориться не иначе как с помощью наследников тех самых нигилистов, «нетерпеливцев», с которыми Лесков боролся 30 лет — всю писательскую жизнь, работая, по его же словам, «в поте лица и в нытье мозга костей своих». «Иногда я сам не знаю, — признавался Лесков на закате дней, — что имеет большее значение: мои ли „праведники“… христиане… или моё „Некуда“, написанное молодым человеком, со свойственным возрасту увлечением и бескорыстием». Между тем антинигилистические романы Лескова до сих пор замалчиваются (и до сих пор не востребованы в должной мере в школе — даже в качестве дополнительного чтения), так же как и лесковские произведения о подвижниках, людях «горячих к добру и разумеющих дух своего народа» — главном противодействии нигилистическому разгулу. А за ними (будь то хоть одна повесть классика «по выбору», как обозначено в школьной программе) стоит у Лескова всегда животрепещущая проблема религиозного, нравственного просвещения и возвышения народа.
Ещё во время возникновения в середине ХIХ века нигилистического движения в России у писателя, обладавшего даром «островидения», возникли опасения, что оно принесёт России великие беды. Поэтому Лесков был по сути первым в русской литературе, кто столь решительно и бескомпромиссно выступил против него в 1860-е годы в романе «Некуда», развенчав опасные утопии приверженцев нигилизма. Нигилисты, эти «нетерпеливцы», намеревались как можно скорее осуществить авантюристический «прорыв» в «светлое будущее» и тем самым «осчастливить» народ. Всех несогласных с этими утопическими затеями ожидала печальная участь. Нигилистам было неважно, сколько жертв будет принесено во имя их «бездушных идолов». Бесноватый герой романа «Некуда» Бычков по этому поводу разглагольствовал так: «Залить кровью Россию, перерезать всё, что к штанам карман пришило. Ну, пятьсот тысяч, ну, миллион, ну, пять миллионов… Ну что ж такое? Пять миллионов вырезать, зато пятьдесят пять останется и будут счастливы» (цифра, напомним, знакомая нам и сегодня).
Не менее колоритна фигура ещё одного нигилиста, Белоярцева, пытающегося создать ячейки социального «рая» до времени революционного переворота. Это — искуснейший демагог, захребетник, честолюбец и интриган. Сладкими речами, «гражданскими воздыханиями» и посулами ему удаётся вовлечь в некую коммуну (которая была наречена «Домом Согласия») несколько доверчивых, неискушённых молодых людей для совместного проживания и работы. Ведь задачу-то он ставит перед ними вроде бы благородную: «Разбуждение слепотствующего общества живым примером в возможности правильной организации труда без антрепренёров-капиталистов». Однако вскоре выясняется, что в «Доме Согласия» согласием и не пахнет. Эта ячейка «осмысленного русского быта» оказалась типично бюрократическим учреждением, где всем верховодил и командовал Белоярцев и где одни члены общины, не работающие, но всем заправляющие «дармоеды и объедалы» (которые «работой лишь изредка пошаливали») жили за счёт других, тружеников и обладателей некоторых средств — «простяков и подаруев». Жертвой этой утопической затеи стала и ищущая смысла в жизни, терзаемая сомнениями героиня романа Лиза Бахарева. Она отреклась от патриархального быта в семейном поместье, но не нашла искомого и в «Доме Согласия» — и оказалась в тупике. Дальше-то идти было «некуда»… В романе таких персонажей, как Лиза Бахарева, мятущихся, ищущих правильной дороги в жизни и всё же в итоге не находящих её, несколько… К этим колеблющимся, добросовестно заблуждающимся, что ли, «чистым нигилистам» Лесков относится с пониманием. Ведь нигилизм не вытравил ещё из их души всех добрых человеческих задатков… Но писатель трезво видит, как такие люди вольно или невольно могут стать орудием в руках эксплуатирующих их нигилистических главарей.
Лесков показал опасность этих последних, нигилистов-шарлатанов, заражающих иных нетвёрдых духом людей неверием, отрицанием традиционных норм, нравственных идеалов. По словам современника, единомышленника Лескова (сказанным уже несколько лет спустя после выхода «Некуда»), нигилизм вёл к «полной распоясанности нравов по убеждению… Идеи, разносимые нигилизмом… решительно ничего от человека не требовали, ни к чему не обязывали и только льстили всякой разнузданности его посягательств, возводили эту разнузданность чуть ли не в священный догмат». Совершенно безнравственна в сущности своей выведенная нигилистами «формула личного счастья»: «как можно больше удовольствий и как можно меньше страданий — не для всех, а для себя…» Кажется, что сущность разных белоярцевых — это именно «всестороннее отрицание без всякого противоположения». Их нигилизм не говорил, что надо; он говорил: «ничего не надо… кроме брюха». Был таким образом заявлен новый общественный тип — человека-хищника.
Читать дальше