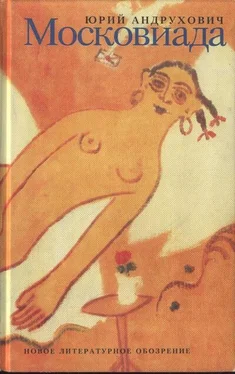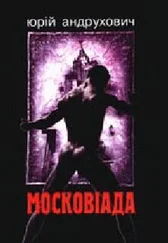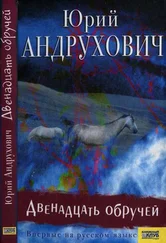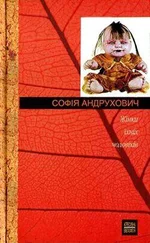— Действительно, — киваешь головой ты, — тут есть чему удивляться! История могла пойти совсем по-другому…
— Могла, — соглашается депрессант. — Но лучше бы она не могла.
— История не знает субъюнктива, — объясняешь ему ты. — Сослагательного наклонения. Ферштейн?
— Яволь, майн фюрер! — отвечает на это депрессант, и вы вдвоем начинаете безумно хохотать.
Но в это время в «Закусочной» появляются двое патрульных омоновцев. Они внушительно проходят по залу, о чем-то переговариваются с цыганским табором в дальнем углу, обыскивают между прочим пару наркоманов-анархистов, а потом, обратив внимание на спящего на подоконнике, весело подходят к нему и начинают лупить своими палками его бессознательное отравленное тело. И черные береты подскакивают на их неправильной формы головах.
«Гестапо!» — хочется крикнуть тебе на весь зал, но старый депрессант затыкает тебе глотку бутылкой кавээна.
— Не делайте глупостей, — шипит он почти шепотом. — Мы с вами тут не для этого. Одним неосторожным выкриком вы можете засыпать все дело…
— Какое еще дело? — интересуешься ты, допив последние капли кавээна и вытирая усы рукавом.
— Дело спасения России, — тем же шепотом отвечает депрессант.
— От кого?
— Это тайна, — прикладывает депрессант палец к губам. — Ферштейн?
— Спасибо, сыночек, — говорит старенькая графиня Лидовских, забирая со стола пустую бутылку, неосторожно оставленную тобой.
Тебе очень хочется низко склониться и поцеловать ей руку, старую, сморщенную руку графини Лидовских, в которой она держит вонючую тряпку для вытирания столов. Едва удерживаешься, чтобы не поцеловать.
Омоновцы все еще лупцуют спящего на подоконнике, которому от этого, наверно, снится что-то неприятное.
— Эге, да он мертвый, — вдруг догадываешься ты и видишь, как постепенно все в «Закусочной» начинают это понимать, даже омоновцы. Они перестают молотить его, а, напротив, начинают щупать его пульс, прислушиваться к сердцу, расстегивать под замасленным пиджаком не менее замасленную рубашку. Около мертвого собирается целая толпа — тесная и заинтересованная.
— Еще одного из наших не стало, — говорит поучительно депрессант. — Еще один российский человек пал жертвой большевизма. Не слишком ли много, господа коммунисты? — он скрежещет зубами, будто в аду. — Но ничего. Ничего, ничего. И эта кровь будет отплачена. И эта кровь. Невинная кровь…
И тут ты замечаешь, как он достает из порыжевшего старинного портфеля гранату типа Ф-1 и уверенно начинает возиться с кольцом, монотонно приговаривая при этом: «И эта кровь. Невинная кровь». Ты еще успеваешь схватить с подоконника свою сумку и добежать к выходу. Успеваешь также промчаться метров двадцать до подземного перехода. Уже из-под земли слышишь взрыв неимоверной силы — так, будто двадцать ампирных «Закусочных» взлетело в воздух, навек вознеся в московское небо и старого маниакального террориста, и двух омоновцев, которые так ничего и не поняли, и тело в замасленном пиджаке, и цыганский табор с телегами и кибитками, и беззубую графиню Лидовских, и всех других, вместе с азербайджанцами, армянами, белорусами, грузинами, казахами, киргизами, молдаванами, россиянами, таджиками, туркменами, узбеками и украинцами…
Историю не выбирают. Но она могла бы сложиться иначе.
Панораму своих отношений с женщинами я развернул перед Вашей Королевской Милостью в прошлый раз. Теперь о моих отношениях с Кагэбэ. Сомневаюсь, Ваша Лазурность, что Вы хоть немного знаете об этой институции. Если нет, то Вы сложите для себя полнейшее представление из моего дальнейшего рассказа.
Дело-то в том, что в моей биографии заложена бомба замедленного действия. Я могу даже умереть (во что почти не верю), но она все равно когда-нибудь взорвется. Радостно и празднично же будет первому попавшемуся историку литературы найти в один прекрасный день в одном из только что рассекреченных архивов кое-что про меня! И про меня тоже. Ибо не я там первый, не я и последний.
О существовании такой фирмы как Кагэбэ, каждый гражданин нашей веселой империи узнает в достаточно раннем возрасте. Я, припоминаю, впервые услышал это название лет где-то в шесть-семь. Почему-то навсегда сохранил в памяти первое детское ощущение от этого слова: что-то такое распутное, скользкое, насильственное, что-то очень похожее на «ебанный в рот» (одно из выражений, которое в том возрасте достаточно интенсивно загружал в мой лексический аппарат родной двор).
Читать дальше