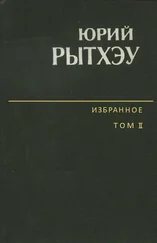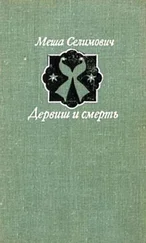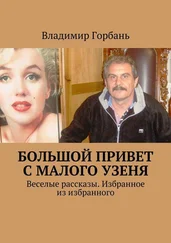Герой «Крепости» — «маленький человек». Но это «маленький человек», забывший, что он маленький. Абсурд? Да. Тот, кто забыл о том, что он «маленький», уже не маленький! Как же примиряются эти уровни в сознании Ахмеда Шабо? А он — маленький человек, время от времени забывающий, что он маленький. Совесть для него не самоцель, а средство спасения души в обстоятельствах, когда душой то и дело поступаешься.
Герой романа «Дервиш и смерть» занят другой проблемой; в центре этической системы романа — «императив действия», там ни о каком «выживании» речи быть не может; решившись действовать, герой знает, что он расплатится за этот «императив» не просто жизнью, но хуже: целостностью духа,— и он проходит до конца свой трагический путь. В «Дервише» есть спонтанная духовная решимость, в которой действие неотделимо от истины и вера неотделима от существования. В «Крепости» появляется осторожное сочувствие, которое дозировано: оно уже не может сжечь человека, оно должно согреть его, помочь ему сохранить душу в мире бездушия и бездуховности.
Ахмед Шабо и мыслит и действует не столько как участник событий, сколько как сторонний наблюдатель. И когда подталкивает Шехагу освободить из крепости Рамиза, и когда предупреждает об опасности Скакаваца, и когда изворачивается перед Авдагой на допросах. Заметьте: герой нигде не действует из своей собственной страсти, но везде незаметным толчком приводит в действие страсти чужие. И эти страсти — увы! — человеческие: пробойное жизнелюбие Османа Вука, свирепая жестокость Скакаваца, мстительность Шехаги. Даже Рамиза, этого рыцаря Справедливости, Ахмед Шабо в глубине души считает слепым безумцем; что же до холодного сыщика Авдаги, то Ахмед подозревает, что в его служебном рвении даже больше своеобразной порядочности, чем во всех страстях Шехаги, Вука и Скакаваца, вместе взятых… Вот и выходит, что Ахмед Шабо в своей борьбе против «химер» опирается на страсти, звериная низменность которых ему яснее, чем кому бы то ни было. И отсюда саморазъедающая горечь его сознания, и вечное «околодействие» и то половинчатое («выжить», но и «сохранить душу») состояние, которое парализует его полупоступки рефлексией, рефлексию же отравляет полупоступками. Точно сказано было о герое «Крепости» в югославской критике: Ахмед Шабо — молодой старик .
Читатель легко уловит в романе «Крепость» следы этой внутренней авторской борьбы: герой часто повторяет или варьирует одно и то же, словно безуспешно убеждая себя; да и финал романа размыт, не собран в фокус, а как бы возвращает нас к экспозиции: опять гонят солдат на войну, все возвращается к началу, все идет по кругу. В атмосфере «Крепочти» нет того, что называется прорывом в новую реальность, в «Дервише» такой прорыв есть: Дубровник, вольная республика, избежавшая тяжкой длани Османской империи… Конечно, мы можем оспорить абсолютность такого символа: вольный торговый город тоже не панацея от исторических бед, описанные историками драки демократических новгородцев на волховском мосту уносят человеческие жизни так же, как и грозная стройность Московского государства при Иване III; так что Дубровник, эта югославская Венеция,—весьма условный и даже небесспорный символ свободы, но в этической системе «Дервиша» он символизирует просвет . В «Крепости» просвета нет: разгульная животность венецианского карнавала, во время которого Шехага по всем законам борьбы получает свою порцию яда, снимает ореол с торговой республики и возвращает героя к тому, от чего он так хотел убежать: к мелкой хаотичности жизни, сдавленной бездушием Закона и пробавляющейся верой в химерические Случай, Судьбу и Везение.
Решившись выжить в этой ситуации, Ахмед Шабо с отвращением продолжает свой жизненный путь. Путь приспособления к реальности.
Отдадим себе отчет в том, что, в сущности-то, автор «Крепости» исследует тот самый путь, на который он поставил героя «Дервиша»,— путь испытания сил человеческих. Но видно, на этом пути люди проходят не через одни трагические перевалы, они осваивают и те долины, в которых селится так называемый средний человек. Это тоже испытание человеческих сил. Но не смертью. Жизнью. И противоречивый опыт такого испытания так же ценен для нас, как и опыт предельных состояний духа, созерцающего «обе бездны».
Роман «Крепость» свидетельствует об известной исчерпанности экзистенциалистских концепций, которыми (и полемикой с которыми) питалась значительная часть европейской литературы на протяжении двадцати пяти послевоенных лет. «Крепость» — книга, так сказать, постэкзистенциалистская: в исходных принципах она еще зиждется на «заброшенности» героя в хаотический мир, но логикой поиска автор стремится преодолеть это ощущение. Ситуация меняется: там, где ранее виделся хаос, в который человек был «заброшен» помимо своей воли, теперь все чаще ощущаются структуры, в которые человек так или иначе должен вписаться, соответственно воспитав в себе волю. На смену «заброшенности» идет «участие» со всем спектром оттенков, начиная с «выживания» и кончая «ответственностью».
Читать дальше
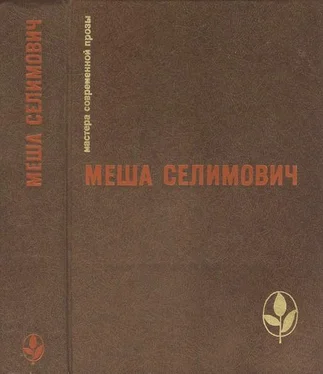


![Вержилио Ферейра - Избранное [Явление. Краткая радость. Знамение — знак. Рассказы]](/books/33192/verzhilio-ferejra-izbrannoe-yavlenie-kratkaya-rados-thumb.webp)