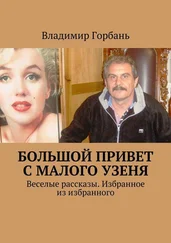Что написано после «Крепости»?
Роман «Остров» (1974). Цепочка новелл, связанных двумя центральными героями. Иван и Катерина — старики, прожившие долгую жизнь, оставившие в этом мире детей и внуков, а теперь удалившиеся от мира на остров обдумывать пережитое. Остров также и буквальный: старик рыбачит, старуха ведет нехитрое хозяйство; нет только золотой рыбки… Критик Миловое Маркович пишет об «Острове»: это книга «драматическая, резкая, горькая, психологически перенапряженная… она сосредоточена… на ощущениях человека, который хоть и бессилен сопротивляться, но не согласен быть раздавленным… Книга жестокая, тяжелая от человеческой боли, разочарований и ошибок».
Проблема человека, исследованная и прочувствованная Селимовичем в предельных режимах, в экстремальных условиях или, как теперь говорят, в системе «параболического» (иносказательного) художественного мышления, в последние годы обнаруживает тенденцию вновь погрузиться в эмпирический материал конкретно прожитой жизни.
Финал ее — воспоминания писателя, вышедшие отдельным томом совсем недавно. Исповедь человека, жившего в бурную эпоху. От ранних лет, несущих какой-то невосстановимо идиллический отсвет, и дальше — через две мировые войны, через потери и испытания — к книгам, составившим славу югославской литературы нашего времени.
Меша Селимович умер в 1982 году.
Редакции получили возможность опубликовать подготовленные ими материалы, лишенные «произвольных толкований».
Такой опыт завершился.
Опыт писателя, знавшего, где и как может человек укрыться от жизни, но знавшего и другое: укрыться — значит не жить.
Л. А н н и н с к и й
ДЕРВИШ И СМЕРТЬ
роман
Перевод Александра Романенко
И з д а н и е т р е т ь е

Meša Selimović
DERVIŠ I SMRT
roman
Sarajevo
1966
ДАРКЕ {1} 1 Таково размещение посвящения (которое адресовано жене писателя) — под заголовком части первой — в печатном издании. В оригинале (http://library.borut.eu/authors/s/selimović_meša) посвящение предпослано всему роману и соответственно размещено непосредственно после заглавия романа.
Во имя Аллаха, милостивого и милосердного!
Призываю в свидетели чернила и перо и написанное пером;
Призываю в свидетели серые сумерки, и ночь, и все то, что она оживляет;
Призываю в свидетели месяц, когда он нарождается, и зарю, когда она начинает алеть;
Призываю в свидетели день Страшного суда и укоряющую себя душу;
Призываю в свидетели время, начало и конец всего — ибо воистину человек всегда оказывается в убытке.
Из Корана
Начинаю свою повесть, не имея в виду какой-либо корысти для себя или для других, но повинуясь потребности, которая сильнее корысти и разума, хочу оставить собственноручную запись о себе, запечатлеть мучительный разговор с самим собой в слабой надежде, что, когда высохнет след чернил на бумаге, дразнящей сейчас своей белизной, и подведут итог всему (если его подведут), все найдет свое решение. Не знаю, что напишет рука, однако закорючки букв сохранят частицу того, что происходило в душе, оно больше не растает в тумане, словно ничего не было. Я смогу увидеть, как я стал собой,— это чудо неведомо мне, и, думается, оно заключается в том, что я никогда не был тем, кем стал сейчас. Понимаю, что пишу сложно, дрожит рука в преддверии того, что предстоит распутать на этом судилище, на котором я и судья, и свидетель, и обвиняемый. Я расскажу все по порядку, насколько смогу честно, насколько вообще можно быть честным, ибо я начинаю сомневаться в том, что искренность и честность — одно и то же, ведь искренность — это наша вера в то, что говоришь правду (а кто в этом может быть уверен?), а честности много кругом, и на одну доску их не поставишь.
Меня зовут Ахмед Нуруддин, это имя мне дали, и я принял его с гордостью, а теперь, после долгого ряда лет, наросших на тело, словно чешуя, думаю о нем с удивлением и временами даже с насмешкою (ведь в словах «светоч веры» столько несвойственной мне надменности!) и немного стыжусь. Какой я светоч? Чем я просветлен? Знанием? Высшей мудростью? Чистым сердцем? Озарением истины? Отсутствием колебаний? Все взято под сомнение, и сейчас я всего лишь Ахмед, не Нуруддин и не шейх. Все спадает с меня, как одежды, как доспехи, и остается лишь изначальное — голая кожа, нагой человек.
Читать дальше
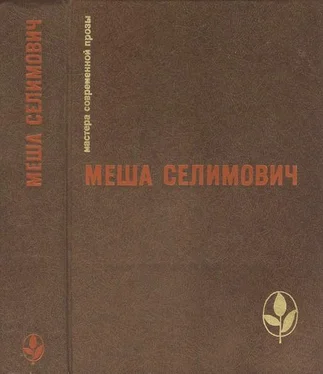



![Вержилио Ферейра - Избранное [Явление. Краткая радость. Знамение — знак. Рассказы]](/books/33192/verzhilio-ferejra-izbrannoe-yavlenie-kratkaya-rados-thumb.webp)