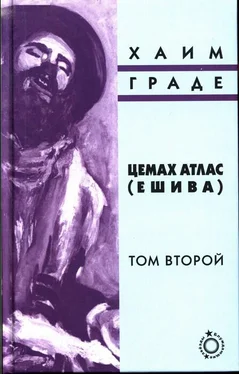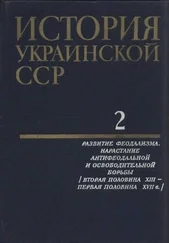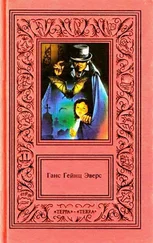— Во что он превратился? — спрашивали товарищи.
А суровый судья-логойчанин отвечал:
— Он превратился в то, чем и был все время. Новогрудковцы думают, что человек способен переломить свою природу, но скорее он сам сломается, чем переломит ее. В гомельчанине проявляется его папаша-купец, который вел расчеты по принципу «мое — это мое, а твое — это твое». Если бы Шимшонл-гомельчанин не знал, что в России хозяйничают большевики и что его отец теперь нищий, он бы смертельно возненавидел ломжинца за то, что тот оторвал его от дома.
— Вам очень не повезло, что вы сейчас не у большевиков. Вы бы там стали комиссаром с револьвером на боку, — говорил Янкл-полтавчанин, сидевший за столом напротив.
— Я бы не смог стать комиссаром с револьвером на боку, а вот наш глава группы Цемах-ломжинец и вы тоже, пересмешник, вы оба наверняка стали бы в России комиссарами, — ответил логойчанин.
Потом ешиботники говорили полтавчанину, что он зря начинает спорить с логойчанином. Того гораздо больше задевает, если ему совсем не отвечают.
Однажды посреди ночи Даниэл-гомельчанин начал корчиться от боли. Его забрали в больницу, и врачи сказали, что ему надо удалить аппендикс. Ешиботники читали псалмы у открытого орн-койдеша, и операция прошла успешно. Потом начались осложнения, Даниэл остался в больнице. Первое время у его постели сменялись медицинские сестры, но болезнь затянулась, и ешиве пришлось платить по трем отдельным счетам — за койку в палате, за врачей с лекарствами и за обслуживание. Глава ешивы решил, что на медицинских сестрах можно сэкономить. Реб Симха Файнерман созвал товарищей гомельчанина и сказал им: теперь они не должны ходить и искать, для кого сделать доброе дело, чтобы записать в свою книжечку, что совершили нечто для улучшения своих качеств; теперь пусть они помогают своему товарищу. Ешиботники начали сменяться у постели больного, выучились перестилать ее, вовремя давать ему лекарства, следить за чистотой. Но Даниэл-гомельчанин был капризным, он все время злился и жаловался, что его плохо обслуживают. Обиженные его отношением ешиботники начали искать поводы, чтобы не сидеть с ним. Железный Янкл-полтавчанин, вздыхая, говорил, что сам не очень здоров. Реувен Ратнер, втянув голову в плечи, оправдывался тем, что занят переговорами со сватом и отцом невесты. Шимшонл-купишкинец бормотал, что не может отрываться на такое долгое время от служения Творцу. Те, что жили в одной квартире с гомельчанином и особенно не любили его за скупость, открыто говорили, что, как бы ни хотелось сэкономить, ешива должна напрячься и собрать необходимую сумму.
Эти речи дошли до главы ешивы, и он ответил на них в своей беседе в субботу вечером перед всей ешивой:
— Помощь ближнему имеет два значения — ему следует помогать и материально, и духовно. Если он оторван от ешивы и не может заниматься учебой, следует порадовать его словами Торы, чтобы он, не дай Бог, не впал в отчаяние.
В темной синагоге на исходе субботы перед вечерней молитвой глава ешивы не мог заглянуть в глаза своим слушателям. Но каждый, стоявший вокруг его стендера, хорошо знал, что тот обращается именно к нему.
— Как одно связано с другим? — вопрошал реб Симха Файнерман. — Если мусарник не помогает товарищу, то все разговоры о том, чтобы пренебрегать собой ради ближнего, — не более чем красивые слова. «Не объяснение главное, а дело» [144] Авот, 1:17.
. Так как же одно связано с другим?
Сыны Торы недовольно морщили лбы и все же снова шли к больному и не показывали при этом, что сидеть с ним для них наказание. Янкл-полтавчанин сказал, что охотнее ходил бы по Нареву, собирая хлеб и картошку для кухни и договариваясь о местах ночлега и днях еды в домах обывателей для младших учеников. Реувен Ратнер ойкал, он не готов платить из собственного кармана взнос, чтобы нанять для гомельчанина сестру-сиделку. Шимшонл-купишкинец вынужден был долго изучать мусар и размышлять о мучениях грешников в аду, прежде чем заставил себя снова пойти к больному.
Возвращались из больницы сыны Торы еще более разозленными и смущенными. Янкл-полтавчанин прекрасно разглядел, что, когда в палату заходила медицинская сестра в белом халате, в чепце на голове и в мягких тапочках, миляга Даниэл начинал сахарно улыбаться, а его глаза влажно блестели, хотя всего минутой раньше у него был отчаявшийся или злой вид.
— А как он раскован с этими белыми гусынями! — продолжал рассказывать Янкл-полтавчанин. — Даниэл знает каждую по имени. Если одна из них останавливается у его кровати и спрашивает, как дела, отчетливо видно, что это для него самое большое счастье. Как только женщина в белом халате уходит, его лицо снова киснет и он зло смотрит на обслуживающего его товарища своими бегающими глазками.
Читать дальше