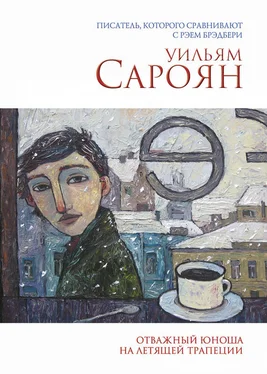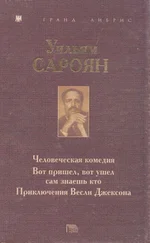Он почувствовал растерянность много месяцев назад. Однажды вечером из трамвая он вдруг заметил небо. Существование неба было потрясающим фактом. Заметив небо, взглянув на него в сумерках, он осознал меру своей растерянности.
Но не стал ничего предпринимать. У него появилось желание обзавестись собственным домом, но он ничего для этого не предпринимал.
Он стоял над своим фонографом, раздумывая о безмолвии машины и своем, о боязни нашуметь, заявить о своем существовании.
Он переставил фонограф с пола на маленький обеденный столик. Фонограф сильно запылился, и он минут десять основательно вытирал с него пыль. Когда он покончил с этим, на него нашел еще больший страх, и на мгновение захотелось поставить фонограф на пол и не включать. Спустя какое-то время он медлительно завел механизм, тайно надеясь, что в нем что-нибудь сломается и тот не сможет оглашать мир шумами.
Явственно помню свое изумление, когда в механизме ничего не заклинило. Я подумал, как странно, после стольких-то месяцев молчания… Через мгновение из корпуса польется звук. Не знаю, как по-научному называется эта фобия, но знаю, что был очень напуган. Я думал, что лучше бы факт моей растерянности оставался тайной. Я знал наверняка, что мне больше не хочется производить шум, и в то же время подумал – раз уж есть новые пластинки, то хотя бы нужно их разок прослушать, перед тем как сложить вместе с остальными накопившимися пластинками.
В тот вечер я прослушал все шесть пластинок с обеих сторон. Я купил мягкие иглы, чтобы фонограф не слишком шумел и не беспокоил других постояльцев. Но спустя месяцы молчания звучание фонографа было отменным. Таким отменным, что мне хотелось все время курить. И еще помню стук в дверь.
Пожаловала квартирная хозяйка миссис Либих.
– А, балуетесь музычкой, мистер Романо? Ну-ну…
– Да, – сказал я. – Несколько новых пластинок. Скоро выключу.
Проигрывание пластинок в ее меблированных комнатах пришлось ей не по душе, но я был ее давнишним постояльцем, аккуратно платил, содержал комнату в порядке, поэтому она не стала мне выговаривать. Но намек я понял.
Все пластинки оказались скучными. Кроме одной. В ней был один прелюбопытный синкопированный фрагмент. В тот вечер я крутил ее три-четыре раза, пытаясь уяснить смысл этого фрагмента, но тщетно. Я понял его техническую сторону, но не смог объяснить, почему он так по-особенному взял меня за живое. Это был контрапункт весьма романтической и, следовательно, заурядной мелодии. Восемь быстрых аккордов на банджо, повторенных четырнадцать раз – тем временем эмоциональная напряженность мелодии нарастала и, дойдя до кульминации, срывалась в тишину. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – в быстром темпе, четырнадцать раз. Звучание было упругим, металлическим. Упрямая настойчивость фрагмента проникла в меня. В ней было что-то, что всегда во мне жило, но ни разу до этого не проявлялось. Не стану упоминать название композиции, так как уверен, что произведенный на меня эффект был чистой случайностью, неизбежностью для меня одного – на любого другого этот фрагмент не произвел бы такого впечатления, как на меня. Обстоятельства должны совпадать с обстоятельствами моего существования на тот момент, а тебе должно быть лет девятнадцать, и ты должен быть безумен, как мартовский заяц.
Он отложил пластинки и забыл про них. Записанная на них музыка слилась с той музыкой, которую он слышал прежде, и затерялась. Прошла неделя. Однажды вечером, наедине со своим молчанием, он вновь услышал тот фрагмент: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – четырнадцать раз. Прошла еще одна неделя. Время от времени ему слышался этот фрагмент. Это случалось всякий раз, когда он пребывал в сильнейшем оживлении, когда ему казалось – он настолько могуч, что способен смести с лица земли все безобразное и уродливое.
Мне нечем было заняться по воскресеньям, поэтому я ходил на работу. Просиживание за телетайпом заполнило всю мою жизнь, поэтому по воскресеньям я тоже работал. Но в воскресный день дела шли вяло, и большую часть дня я сидел в конторе, хандрил, грезил, мечтал о своем доме. Телетайп посылает и принимает сообщения. Он – великое техническое достижение, которое лишило работы тысячи старых телеграфистов. Они получали не больше доллара в час, но когда телетайп был усовершенствован и внедрен, они лишились работы, и молодняк вроде меня, который ничего не знал про телеграф, занял их место. Усовершенствование телетайпа дало большой скачок в производительности. Телеграфные компании экономили каждый год миллионы долларов. Я зарабатывал около 28 центов в час, зато мог отправлять и принимать вдвое больше телеграмм, чем самый проворный телеграфист за то же время. Но по воскресеньям работы очень мало, и телетайп может молчать хоть целый час.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу