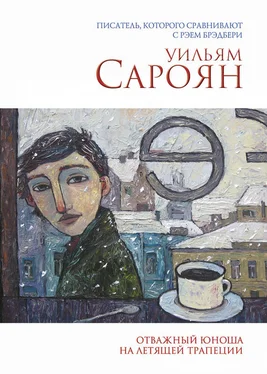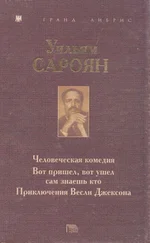Они не рассорились. Девушка не заболела и не умерла. Не сбежала к другому молодому или богатому старому человеку – наступил ноябрь.
Я сидел у себя и пытался понять, что же с нами случилось. Дом. Это же смехотворно! Как я мог бы обзавестись домом на свое жалованье? Ощущение полной растерянности. Какая чепуха! Глупость. Я ходил из угла в угол, непрерывно курил, пытаясь понять, как же вдруг рухнуло здание, возведенное нами – для нас? Я хотел понять, почему нам больше не хочется бывать за городом. Дело ведь не только в девушке. Я сам перестал говорить о доме. Я сам перестал слышать музыку, и вдруг вернулась тишина, я стоял посреди нее в растерянности, но теперь мне уже не хотелось возвращаться к себе. Пусть остается как есть, думал я. Пусть все будет как есть. И так далее.
Зимой они стали постепенно отдаляться друг от друга. Неожиданно в марте 1928 года его осенило: все в прошлом, все умерло.
С ней что-то случилось. Она потеряла работу. Она уехала, стала жить по другому адресу в другом городе. Он не знал, в каком. Он потерял ее из виду.
В июне что-то случилось с ним.
Однажды после полудня я работал за телетайпом и вдруг услышал тот самый фрагмент: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 в быстром темпе и увидел ее лицо и пейзаж в ее глазах. И услышал ее смех: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И по мере того, как я работал на телетайпе, эта музыка, воспоминание о девушке, возникший в памяти дом, который мы собирались строить, – все-все предстало в моем сознании таким, как в то лето – как истина и реальность. И я растерялся, смутился, опешил.
В тот вечер он поставил пластинку, но прослушал ее всего лишь раз – она заставила его прослезиться. Он посмеялся над своими слезами, но не посмел прокрутить эту музыку еще раз. Он подумал – как все это забавно! В его сознании музыка, девушка и дом обрели одно единое значение, и это забавляло его.
Но на следующий день я попытался разыскать ее. Это произошло само собой. Прогуливаясь, я и сам не заметил, как пришел к ее прежнему дому и стал расспрашивать новых жильцов, где искать ее сейчас. Никто не знал. Я прогулял до часу ночи. Музыка опять вселилась в меня, и я начал частенько слышать ее.
Когда бы он ни работал на телетайпе, ему слышалась эта музыка, возникавшая из аппарата: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Каждое воскресенье он умолял телетайп вернуть ему девушку. Это было нелепо. Он знал, что она больше не работает на компанию, и все равно ждал, когда машина напечатает для него ее прежнее: привет привет привет . Это было абсурдно! Совершенно ни в какие ворота!
Он никогда не знал про нее особенно много. Он знал ее имя, и что она значила для него, но не более.
А музыка твердила и твердила свое.
Однажды днем он встал из-за телетайпа и снял форменную тужурку. Было два часа, он прекратил работу и ушел, получив жалованье. Не хочу процветания, сказал он. Он направился в свою комнату и уложил свои пожитки в два чемодана.
Фонограф с пластинками он подарил миссис Либих, квартирной хозяйке.
– Фонограф старый, – сказал он ей, – и время от времени потрескивает, особенно когда ставят Бетховена. Но еще работает. Пластинки – так себе. Есть приличная музыка, но по большей части – однообразный джаз.
Он чувствовал в себе музыку, когда говорил с хозяйкой, и ему было тяжело оставлять фонограф с пластинками в чужом доме, но он знал – они ему больше не понадобятся.
Выходя на вокзале из зала ожидания к поезду, я чувствовал, как музыка разрывает мне сердце. Когда поезд тронулся и завизжал свисток, я сидел, беспомощно проливая слезы по девушке и дому, насмехаясь над собой из-за того, что мне хотелось взять от жизни больше, чем у нее было.
Однажды утром, когда мне было лет пятнадцать, я встал до рассвета – всю ночь не мог уснуть, ворочаясь с боку на бок, от раздумий о странностях бытия и о земле, ощутив вдруг свою неразрывную, несомненную причастность к ней. Всю ночь я провел в размышлениях только ради того, чтобы снова подняться утром, увидеть рассвет, дышать и жить. Я потихоньку встал во тьме раннего утра, облачился в синюю хлопчатую рубашку, натянул вельветовые брюки и носки, обулся. На дворе стоял ноябрь, и уже стало холодать, но мне не хотелось надевать ничего другого. Мне было и так тепло и даже почти жарко, а если бы я оделся потеплее, то мог бы что-то упустить: должно было произойти нечто необычное. И я думал – будь я в теплой одежде, то это нечто от меня ускользнет, и все, что мне останется, – это воспоминание о чем-то желанном, но упущенном.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу