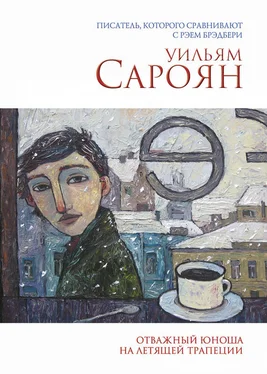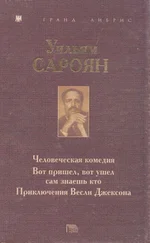Бедняга Том там, внутри, наедине с непосильной проблемой и ужасающей обязанностью.
Ради спасения своей чести, ради голливудской морали, ради киноиндустрии (третьей по объему в Америке, насколько я знаю), ради Господа Бога, ради вас и ради меня Том должен совершить самоубийство. Если он этого не сделает, это будет просто означать, что все эти годы мы, Шекспир и все остальные занимались самообманом. Мы знаем, что у него хватит на это мужества, но на какой-то миг мы надеемся, что он не станет этого делать, чтобы просто посмотреть, что из этого выйдет, а вдруг созданный нами мир возьмет и рухнет.
Мы установили правила давным-давно и теперь, спустя годы, задаемся вопросом, а вдруг они ненастоящие, или, может быть, мы с самого начала допустили ошибку. Мы понимаем – это искусство, и оно даже немного смахивает на жизнь, но мы знаем, что это не жизнь, ибо в искусстве все слишком строго упорядочено.
Нам хочется знать, должно ли нашему величию быть мелодраматичным.
Камера останавливается на ошеломленном лице старого верного секретаря, который помнит Тома еще мальчишкой. И тем самым вы в полной мере проникаетесь драматизмом ситуации, в которую попал Том, и глубоко переживаете это тревожное ожидание.
Затем убыстренный темп. В поле зрения тот же объект. Время ускоряется, наступает кульминация, мы подходим к последней черте, к неизбежности. Томми, сын Тома, приходит к старому верному секретарю и восклицает, что слышал, будто Том, его отец, болен. Он не знает, что отец в курсе. Это голливудская находка. Звучит соответствующая музыка.
Он бросается к двери, к отцу, этот юнец, нарушитель естественного порядка вещей в мире, вступив в половую связь с молодой женой своего отца, а затем – ба-бах. Пистолетный выстрел.
Мы знаем – с президентом Чикагской и Юго-Западной железнодорожных компаний покончено. Его честь спасена. Он остался великой личностью. В который раз киноиндустрия торжествует. Сохранено благородство жизни. Все вернулось на круги своя. Голливуд может снимать кино для публики еще сто лет.
Ради эффекта все подчинено точности: пауза, симфоническая музыка, рука Томми, застывшая на дверной ручке.
Старый верный секретарь знает, что произошло, Томми знает, вы знаете, и я знаю, но лучше один раз это увидеть. Старый верный секретарь позволяет, чтобы горькая реальность пистолетного выстрела проникла в его старый, верный и дисциплинированный ум. Затем, поскольку Томми слишком перепуган, старик сам заставляет себя отворить дверь.
Мы все жаждем увидеть, что же произошло?!
Дверь приоткрывается, и мы заходим – все пятьдесят миллионов плюс многие миллионы по всему свету.
Бедняга Том! Он рухнул на колени. И каким-то образом, хотя это происходит стремительно, кажется, что это скоротечное движение – падение на колени – последнее в жизни великого человека – будет длиться бесконечно. Комната затемнена, музыка красноречива. Ни крови, ни беспорядка. Том падает на колени, благородно умирая. Я сам слышал, как расплакались две дамы. Они знают, что это кино. Знают, что это понарошку, но все равно плачут. Том – человек. Он – сама жизнь. Они прослезились при виде жизни, падающей на колени. Через минуту фильм кончится, они встанут и разойдутся по домам, займутся обычными делами, но сейчас, в благочестивой темноте кинотеатра, они рыдают.
Я знаю одно – самоубийство не есть заурядное происшествие в сопровождении симфонической музыки. Когда мне было лет девять или десять, напротив нас жил один человек. Однажды днем он совершил самоубийство, но на это у него ушло больше часа. Он выстрелил себе в сердце, но промахнулся. Затем выстрелил себе в желудок. Я слышал оба выстрела. Между ними был промежуток секунд в сорок. Потом я думал, что за этот промежуток он силился решить, следует ли ему окончательно добить себя или попытаться спастись.
Затем раздался его вопль. Все рухнуло, и материально, и духовно. Человек вопит, люди носятся, кричат, пытаются что-то сделать, но не знают, что именно. Он вопил так громко, что полгорода его слышало.
Вот все, что мне известно про самоубийства. Я не видел бросающихся под трамваи женщин и не могу об этом судить. Это единственное самоубийство, о котором я знаю достоверно. Никому в кино не пришлось бы по душе, как вопил тот несчастный. Никто бы не стал по этому поводу лить слезы умиления.
И вот что я вам скажу: пора уже положить конец самоубийствам в кино.
В 1927 году, проходя по универмагу Вулворта, он заметил стайку покупателей, быстро перебирающих грампластинки, сложенные высокой стопкой на столе. Он подошел узнать, что там происходит. Оказалось, продают широкий выбор новеньких пластинок фирм «Виктор» и «Брансвик» по пять центов штука. Он уже много месяцев не слушал фонограф. А теперь можно будет снова его завести и поставить пластинку. Фонограф стал частью его натуры. Он сливался с фонографом и звучал из него песней, симфонией либо неистовой джазовой композицией. Он месяцами не подходил к фонографу, и тот стоял у него в комнате, запыленный и безмолвный.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу