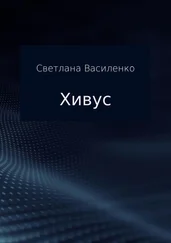Потом достала печенье и мандарин и тоже положила у норы.
– Зачем? – спросил я.
– Они одни на свете останутся, суслики, – объяснила мне Светка, – после ядерной войны. Они в своих норках, как в бомбоубежищах, выживут. После войны вылезут, а тут конфета… Они сейчас ударят, – сказала она как большая. – Ровно в четыре часа.
На наш разговор стали сползаться дети. Даже Тракторина Петровна приползла, кутаясь в старую шаль. Стало так холодно. Я трясся как ненормальный, я замерз страшно.
Мы ждали конца.
Я представил маму и попрощался с ней. Папа был внизу, под степью, под нами – в ракетной шахте. Я попрощался с ним, приникнув щекой к земле, сказав в землю: прощай, отец. Щекой я ободрался о колючую степь, будто о папину щетину.
Потом сел ждать. Это было самое страшное – ждать. Это было невозможно – ждать. Нас уже всех трясло.
– Я боюсь. Я не хочу умирать, – сказала одна девочка. – Не хочу, не хочу, не хочу!..
И сразу заплакали все малыши. Они плакали прямо в небо, они ревели, выворачивая душу.
И тогда я сказал Надьке:
– Надька! Ну сделай же что-нибудь!
Я не знаю, почему я так сказал, я просто так сказал. Меня трясло, и я сказал.
– Надька! Ну сделай же что-нибудь! – сказал я.
Надька посмотрела на меня. Она посмотрела осмысленно, ясно, будто услышала меня.
Потом она встала. Она стояла поеживаясь, как тогда в душевой, подняв лицо к серому холодному небу. Она стояла неуклюжая, в зеленой шерстяной кофте, бордовом платье, с огромным круглым, как мяч, животом.
Она постояла, потом обхватила свой живот, как воздушный шар, руками – и вдруг зависла над землей.
Она медленно поднималась все выше и выше, будто ввинчиваясь в небо. Я видел над собой ее пятки, грязные, потрескавшиеся, она вечно ходила босая…
– Сидорова! Ты куда?! – завопила вдруг Тракторина Петровна и даже подпрыгнула, бросившись за ней, но упала на землю. – Сидорова, вернись!
Баба Маня, глядя на Надьку, упала на колени.
– Чудо! – сказала она, воздев кверху руки. – Господи! Чудо!
И Надька посмотрела на нас сверху. Она так посмотрела!
И все как бы остановилось. Стояли недвижимо дети, задрав головы. Стояла неподвижно на коленях посреди степи баба Маня. Не двигаясь, с ужасом глядя на Надьку, лежала на земле Тракторина Петровна. Стоял, опираясь на посох и глядя вверх, пастух. Стояли овцы, подняв свои кроткие лица к небу. И птица остановилась в полете. Воздух тоже был недвижим: ни ветерка, ни дуновения. Все в этот миг остановилось.
Только Надька взлетала все выше и выше. Ее уже не стало видно.
А через несколько минут показалось солнце. Оно рождалось на наших глазах на краю земли и неба, огромное красное солнце, все испачканное в Надькиной крови.
Надька рожала солнце.
Оно поднималось и поднималось и вдруг, просияв, показало себя все.
Солнце было совсем другое, чем прежде.
Это было новое солнце.
Оно лежало в небе словно младенец в пеленках и глядело на новый, простирающийся перед ним мир.
И я вдруг понял, что войны не будет, что Надька сегодня спасла нас, что не будет ядерного удара, ракет… Смерти не будет!..
Я упал на землю, лицом в степь, и плакал навзрыд, не стыдясь. Что-то зашелестело у моего лица. Я приподнял голову. И увидел, как суслик маленькой ловкой лапкой затаскивает в свою нору шоколадную конфету «Озеро Рица».
Капустин Яр – Москва.
1993–1998.


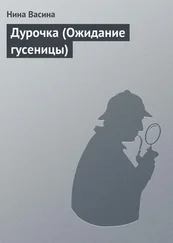
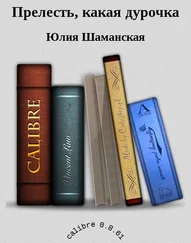
![Полина Люро - Дурочка [СИ]](/books/385066/polina-lyuro-durochka-si-thumb.webp)