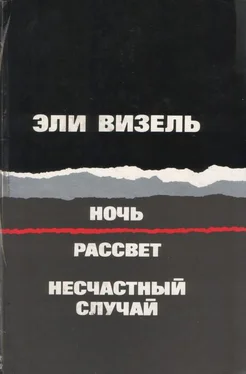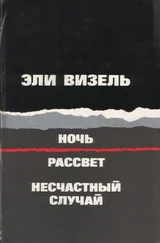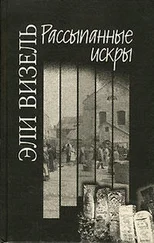Когда Джон Доусон заговорил о своем сыне, я услышал шаги Давида и нарастающую песню. Своими словами Джон Доусон хотел заглушить шаги, заслонить от меня Давида, идущего по коридору, и странную улыбку на его губах. Он пытался оттолкнуть безнадежные звуки Xатиквы, песни надежды.
Мне нужно было возненавидеть его, тогда бы все стало так просто… Почему ты убил Джона Доусона? Я убил его, потому что ненавидел. Я ненавидел его потому, что его ненавидел Давид бен Моше, а Давид бен Моше ненавидел его за то, что тот разговаривал, когда Давид шел по мрачному коридору, в конце которого он должен был встретить свою смерть.
— Ты, наверное, ненавидишь меня, Элиша? — спросил Джон Доусон. Нежность переполняла его глаза.
— Я пытаюсь возненавидеть тебя, — ответил я.
— Зачем тебе пытаться ненавидеть меня, Элиша?
В его теплом, чуть печальном голосе не было и следа любопытства.
Зачем? Я удивился. Что за вопрос? Без ненависти все, что делают мои друзья и делаю я — напрасно. Без ненависти у нас нет надежды одержать победу. Почему я пытаюсь возненавидеть тебя, Джон Доусон? Потому что мой народ никогда не умел ненавидеть. На протяжении столетий его трагедия заключалась в том, что он не мог возненавидеть тех, кто издевался над ним, а временами и истреблял его. Теперь наша единственная надежда — возненавидеть тебя. Мы должны понять, что ненавидеть — необходимо, и мы должны усвоить искусство ненависти. Иначе, Джон Доусон, наше будущее будет всего лишь продолжением прошлого, и Мессия никогда не дождется избавления.
— Зачем тебе пытаться ненавидеть меня? — снова спросил Джон Доусон.
— Чтобы придать моему поступку высший смысл.
И опять он медленно покачал головой.
— Мне жаль тебя, — повторил он.
Я взглянул на часы. Без десяти пять. Еще десять минут. Через десять минут я совершу самый важный и убедительный поступок в моей жизни. Я встал с койки.
— Готовься, Джон Доусон, — сказал я.
— Час настал? — спросил он.
— Уже скоро, — ответил я.
Он поднялся и прислонился к стене, видимо, для того, чтобы собраться с мыслями или помолиться, или еще чего-нибудь в этом роде.
Без восьми минут пять. Еще восемь минут. Я вытащил пистолет из кармана. А что, если Джон Доусон попытается отобрать его у меня? Ему все равно не убежать. Дом хорошо охраняется, а из подвала можно выйти только через кухню. Там наверху караулят Гад, Гидеон, Иоав и Илана, и Джон Доусон знает об этом.
Без шести минут пять. Еще шесть минут. Внезапно я почувствовал полную ясность мыслей. Неожиданно камера озарилась светом преграды рухнули, роли были окончательно распределены. Время сомнений, вопросов и неуверенности в себе миновало. Я стал рукой, сжимающей пистолет. Я был пистолетом, который сжимала моя рука.
Без пяти пять. Еще пять минут.
— Не страшись, сын мой, — говорит рабби Давиду бен Моше, — Господь с тобой.
— Не волнуйся, я же хирург, — говорит застенчивый начальник гестапо Стефану.
— Письмо, — говорит Джон Доусон, озираясь. — Ты ведь отошлешь его моему мальчику?
Он стоял у стены; он стал стеной.
Без трех минут пять. Еще три минуты.
— Господь с тобой, — говорит рабби. Он плачет, но Давид уже его не видит.
— Письмо, не забудь, ладно? — настаивает Джон Доусон.
— Я отошлю его, — обещаю я и зачем-то добавляю: — Отправлю сегодня же.
— Спасибо, — говорит Джон Доусон.
Давид входит в камеру, из которой ему уже не выйти живым. Палач ждет его. Он — сплошные глаза. Давид поднимается на эшафот. Палач спрашивает его, завязать ли ему глаза. Давид категорически отказывается. Еврейский боец умирает с открытыми глазами. Он хочет взглянуть смерти в лицо.
Без двух минут пять. Я вынимаю из кармана платок, но Джон Доусон приказывает мне убрать его. Англичанин умирает с открытыми глазами. Он хочет взглянуть смерти в лицо.
Без одной минуты пять. Еще шестьдесят секунд.
Дверь камеры бесшумно отворилась и мертвые вошли, наполняя нас своим молчанием. В тесной камере стало невыносимо душно.
Нищий тронул меня за плечо и сказал:
— Близится день.
А мальчик, который походил на меня, такого, каким я был когда-то, сказал смущенно:
— Я в первый раз… — Его голос прервался, а потом, словно вспомнив, что фраза осталась незаконченной, он добавил:
— Я в первый раз вижу казнь.
Мои отец и мать были здесь, а также седой учитель и Иерахмиэль. Они молча следили за мной.
Давид выпрямился и запел Xатикву.
Джон Доусон улыбался, он стоял, прислонившись головой к стене, а его тело вытянулось вверх так, как будто он отдавал честь генералу.
Читать дальше