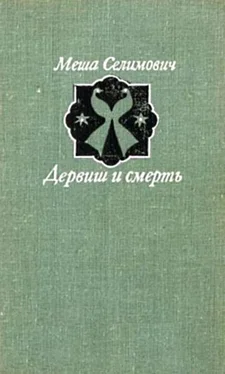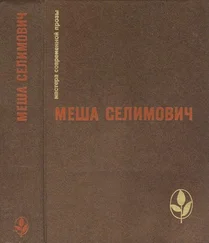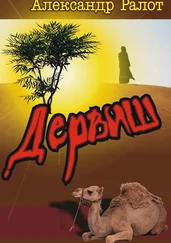Солдаты пили, играли в кости под прикрытием одеял, ругались, дрались, это было собачье существование, которое я на первый взгляд выносил спокойно, ничем не обнаруживая, как мне тяжело, не двигаясь даже тогда, когда меня мочил дождь, неподвижный даже тогда, когда шатер превращался в сумасшедший дом, в клетку с дикими зверями, я заставлял себя молча выдерживать все отвратительное и невыносимое, я был молод и считал это частью искупления, зная, насколько это отвратительно и невыносимо. Крестьянин и ученик медресе, я вздрагивал при каждом ругательстве и каждом бранном слове, пока не понял, что солдаты употребляют их, не замечая в них ничего неприличного. А когда они хотели выругаться по-настоящему, когда они хотели отвести душу, наслаждаясь и предвкушая удовольствие, то становилось в самом деле невыносимо. Они делали это с безмятежной злобой, с дерзким наслаждением, умолкая и вызывающе ожидая отклика на это неестественное соединение слов. Случалось, у меня подступали к горлу слезы.
Я услышал многое о жизни и людях, чего до сих пор не знал. К чему-то относился с любопытством, к чему-то — с ужасом и таким образом приобретал опыт, теряя наивность и не переставая сожалеть об этом.
Я сидел вместе с солдатами, пока мог выносить, но позволял себе уйти только тогда, когда уже успокаивался, тупел или уходил куда-то мысленно, воспринимая все как необходимость, что зовется жизнью и что не всегда прекрасно. Изредка я пытался вразумить их. Несколько раз они жестоко высмеяли меня (я был такой же, как они, я носил духовное звание, но на мне не было чина, который мог бы защитить), и ради себя и ради них я отказался от вмешательства в их дела, ограничившись молитвами, которые входят в число солдатских обязанностей наряду с маршами и караулом. Странная, лишающая мужества мысль приходила мне тогда в голову, что в тяжком положении оказывается человек, который духовно более развит, чем остальные, коль скоро его не защищает положение и страх, что с этим положением связан. Он замыкается в себе, его критерии совсем иные, они никому не приносят пользы, но его они отчуждают.
Таким образом, я чаще всего оставался наедине с книгой или со своими мыслями, и мне не удавалось найти ни одного человека, с которым хотелось бы сблизиться. На всех я смотрел как на одно целое, как на скопление людей, необычное, жестокое, сильное, даже любопытное. В отдельности же они оказывались непостижимо незначительны. Я не презирал их, думая о них как о толпе, и даже немного любил это стоглавое существо, крутое и могучее, в отдельности же я их не терпел. Моя любовь или нечто чуть поменьше этого касалась всех, а не одного, и для меня ее было достаточно.
Однажды, когда я сидел в поле, на трухлявом пне, в жесткой, доходящей до колен траве, одинокий, подавленный треском цикад под жарким солнцем (все время что-то верещало, трещало, пело на этой равнине), смятенный тем, что́ услышал от солдат о молодухе из хана, я вдруг увидел мальчугана — он замер в траве, погрузившись в нее почти по горло. Он с доверием пошел ко мне. Мы были уже знакомы.
Мне не хотелось встретиться с ним. Словно я боялся, как бы он не прочел в моем взгляде то, что я слышал о его матери.
Болтовня солдат не казалась невероятной… Это была единственная молодая женщина возле нас, первые села виднелись лишь на далеком краю равнины, наши ходили туда тоже, особенно ночью, я знал, чаще всего из-за женщин, а ведь никто не бывает столь бессовестен, как солдат, который знает, что может в любую минуту погибнуть, но не хочет думать о смерти, не хочет ни о чем думать и спокойно оставляет позади себя пустыню. Да и женщины с ними уступчивее по своей извечной жалости к солдату, к тому же и бабий их грех развеет ветер на дальних солдатских дорогах. Там, где войско пройдет, трава не растет, но дети подрастают. Трудно мне было отнести все это к матери мальчугана. Любая женщина, только не эта. Я настолько обобщал мир, что терял его из виду.
Маленькая, хрупкая на вид, еще молодая, она не сразу бросалась в глаза, однако ее сдержанный взгляд, и спокойные манеры, и уверенное поведение не позволяли равнодушно пройти мимо. И тогда можно было заметить глаза, что не глядели рассеянно, красивый рот, чуть насмешливый и упрямый, ловкие движения, которые возможны лишь при здоровом и гибком теле. Она мужественно боролась с тяготами жизни. Овдовев, она решила как-нибудь сохранить хан и хозяйство, которое война постепенно разрушала, и оно стало походить на кладбище и пустошь. Она не ушла, хранила то, чем владела, пытаясь из общей беды извлечь свою выгоду. Она продавала солдатам еду и напитки, позволяла играть в кости в хане, вытягивала горемычную солдатскую денежку, давая им то, чего они были лишены. Она старалась изолировать сына от дома и от солдат, как только могла, но могла-то она не всегда. Я разговаривал с ней об этом. «Для него и работаю,— спокойно сказала она.— Трудно ему придется, если начнет на пустом месте».
Читать дальше