Это не была бессильная ярость – нет, торжествующая. Он безостановочно вспоминал как это было: да… да!.. Да!!! Утопающий за Соломинку… «Не сметь меня касаться! – разжала рукоять. – Это мне можно, а моим сыновьям нельзя». Живейшее из наслаждений, лишившись поддержки, кончилось содроганием почти болезненным. «А много их, сыновей? – спросил он хриплым голосом. – Да, вот что, – скажет он ей, еще тяжело дыша, – в субботу не получится. Сашка Выползов женится. В НАТЕС никто не должен знать. На одной лишенке. Отец был офицером».
Дальше две новости. Не скажешь, одна хорошая, другая плохая: в отсутствие хорошего героя нет плохих новостей. В отсутствие любимых или просто симпатичных персонажей «хорошее» и «плохое» – как цвет до появления людей. Или после их исчезновения.
Зачем же они у тебя исчезают, автор? Зачем ты обходишься с читателем, как скорпион: тот жалит лягушку, на которой перебирается на другой берег? «Зачем ты это сделал? – говорит лягушка. – Ведь мы сейчас оба утонем?» – «Я не могу иначе, – отвечает скорпион, – такова моя природа».
(Лесков пишет лучше Тургенева, но Тургенев превосходит его в славе. Тургенев нанизывает свой роман на героя. Так популярный актер делает сборы. Об этом писал Борхес, в чуть других выражениях и на примере другой пары – Кеведо и Сервантеса. Умоляю, снимите с полки Кеведо и прочитайте «Кавалера ордена бережливцев» в переводе Петрова – того самого, родившегося в Казани Сергея Петрова, чьим именем мы самочинно назвали центральную улицу.)
В отличие от скорпиона я могу иначе, могу взять в постель любимую игрушку – любимого героя, но не хочу. Свою единственную жизнь я предпочитаю прожить честно. В моем варианте это означает свободно. Достаточно и того, что я в рабстве у смерти: я не имею права перерезать себя ею по собственному желанию, как то сделал… не угадаете – в самоволку ушел Саша Выползов. Допустим, это плохая новость – с плохой, по обыкновению, начинают. Не ожидали? Никто не ожидал.
– Вы слышали? – Женя Придорожная вбежала в репетиционную, ни кровинки в лице, белые глаза. В ней было трудно узнать лукавую травести – в цилиндре, хвосты фалд, с тростью – на радостях вдруг запрыгавшую: «Ай да Пушкин…».
– Выползов Саша умер!
– …
– …
– Он перерезал себе горло.
– Сам?!
– Он записку оставил. Его нашли утром «у Гаврилы».
Вся залитая кровью, записка была сжата в пальцах, – Трауэру, поспешившему на Ново-Комиссариатскую, ее показали. Содержание скорей угадывалось, чем прочитывалось. «В моей смерти прошу никого не винить. Дочь белого офицера не может стать женой красного конника. Я вступил на путь классового предательства».
– Это его почерк? – спросил у Трауэра мужчина с усишками «бабочкой», такими же, как у будущего наркома внутренних дел.
– Да, его, – сказал Трауэр. Кто знает, какой там почерк у Выползова. Трудно себе представить, чтобы у Выползова вообще был какой-то почерк: он двух слов в своей жизни не написал.
– Дочь белого офицера, кто это, по-вашему, может быть?
– Понятия не имею, они же затаились. Может, это плод его воображения?
Сотрудник угро угрюмо молчал. Он потер двумя пальцами, указательным и средним, щетину многообещающих усиков – с другой стороны, ничего хорошего их обладателю тоже не суливших.
В фортку неслось уличное пение. Детский голос глумился:
Стенька Разин в печку лазил, с тараканом воевал,
И за это преступленье царь на каторгу сослал.
– Хорошо, товарищ Трауэр. Вам – я скажу. Но это закрытая информация. Говорите, плод его воображения? Ошибаетесь. Он свое яблочко покушал. Предавался развратным действиям с классово чуждым элементом. И за это преступленье не только горло себе перерезал.
– А что еще?
– «Что…»
– Бритвой?
А певец за окном поет-заливается:
Волга, Волга, матерь родна, Волга русская река,
По тебе плывет пиписька моряка Железняка.
В американской киноленте «Интолеранс» есть все, от древнего Вавилона до вавилонов современности. Трауэра впечатлил эпизод с молодым японским психиатром: молодой врач заслушался пением старой сирены, заточенной в одиночную палату. Только внезапное появление старшего коллеги спасает его горло от смертоносной булавки.
О том, чтобы дать показания, и думать не моги. Конечно, его почерк, чей же еще?
Сам сын резника, ко всему еще ветеринар-недоучка, Трауэр по этой части был наделен пылким воображением. Его суду все ясно. Включая последовательность, с какой был пущен в ход «золлинген», прихваченный из оружейной Марка Захаровича. А может, и сама подбривала у себя чего. Чего «сыновьям нельзя». Безумие бывает разной глубины, по поверхности судить трудно. Бывает, ноги промочишь. Бывает, по колено, по пояс, ну и выше головы. Нырять, мерить дно чужого безумия, которое тебя пользует – слуга покорный. Сговорилась с Сашкой «у Гаврилы». Обычное место дневных свиданий, в ночное время делить его не с кем, разве что с Державиным. На пике развратных действий отчикнула рукоять, которую сжимала, и сразу по горлу: уд и горло – сама уязвимость. Горло – не очень больно. Резник выпускает кровь долго, но не мучительно. Неподвижно вытаращенный глаз, в котором больше ужаса, чем муки. Татары в несколько рук держат барана, пока кто-то один причиняет ему смертоубийственную щекотку – бьется он считаные мгновения. Бритвой, правда, глубоко не зачерпнешь. Сперва сделался Никитишной-царевной: «ничего или очень мало». Это, наверное, как кипятком: в какую-то долю секунды не доходит, что кипяток, а когда из горла стало выплескиваться, как из раскачивающегося бурдюка, вторая секунда позабыла наступить. От хлещущего красного вина он быстро хмелеет, стоит, качаясь, тонкая рябина, опустился на колени, улегся калачиком. Ноги вращают велосипедные педали, дерг… дерг… Сорвалась цепь. Последняя агония за жизнь, такая же бесполезная, как сопротивление сотрудникам угро, окружившим воровскую малину на Подлужной. Сдавайся своей смерти, Сашка. Он уже не почувствовал, как кто-то, склонясь над ним, вложил ему в руку листок, написанный заранее.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
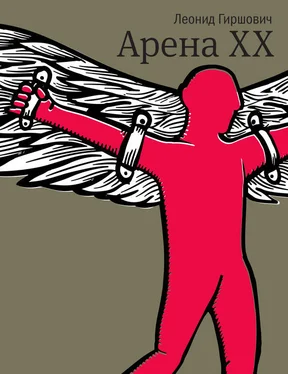






![Дмитрий Мазуров - Арена теней [AT]](/books/396109/dmitrij-mazurov-arena-tenej-at-thumb.webp)




