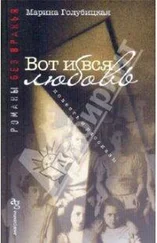Все смеются, оглядываясь на Подшивалова.
— Чистосердечное раскаяние?
— Облегчает подозрения.
— Так ты поставила ему три?
— Поставила.
— Это сильно!
Виктор с девушкой сидят в конце вагона, съежившись и наверняка чувствуя, над кем мы смеемся. Но сдерживаться почему–то не хочется…
— Это была медсестра? — Гуле хочется красивой истории.
— Вряд ли. Та была шире. Эта тоненькая.
— Да щас, девки, кроме нас, все тоненькие, — итожит Люба. И завывает: — Ой, скоро ж Восьмое марта! На что справлять–то? Денег нет, да еще пеленки. Я приданное не готовила, думала, позже… Хоть бы до праздника здесь продержали…
У Любы в душе — переменная облачность: то пугается, что скоро выпишут, то боится, что пропустит зарплату.
— Мне хотя и без зарплаты… Картошки на овощебазе набрать — и на рынок. Девки, чо хоть это такое, нитраты? Все спрашивают: «У вас картошечка своя, без нитратов?» Та же картошка, что в магазине. Без грязи — так и скажи. А то: «Без нитратов…»
— Вы что, воруете?
— На овощебазе берем. Там почти что не охраняется, один Фаридка. А еще моркошки намыть… Хотя на моркошке на бутылку не заработаешь… Это, девки, я шутю — я ведь не пью.
С каждым днем проблема пеленок тревожит Любу все сильнее. Она рвется на волю, надоедая нам с Гулей. Мы скрываемся в других палатах (нарушение режима!) или зарываемся в книжки: Гуля в «Поющих в терновнике», я — в «Тропик рака».
Только мой муж мог принести в роддом такое: «Когда все снова всосется в матку времени, хаос вернется на землю, а хаос — это партитура действительности. Ты, Таня, — мой хаос. Поэтому–то я и пою. Собственно, это даже и не я, а умирающий мир, с которого сползает кожура времени. Но я сам еще жив и барахтаюсь в твоей матке, и это моя действительность».
В соседней палате барахтается несчастная немка, не успевшая эмигрировать до родов. Ей семнадцать. Ее ребенок умер. Марту положили в палате одну, чтоб не травмировать видом чужих младенцев. Одиночных палат здесь нет, несчастную девчонку окружают девять кроватей с голыми матрасами. На десятой мы обнаружили гигантскую улитку: Марта корчилась под одеялом, спиной вверх, лицом в колени. Бестолковая медсестра вместо четвертушки таблетки дала ей четыре. Медсестра уверяла, что не она, а больная перепутала дозу, но правда была уже не важна — матка сокращалась в шестнадцать раз быстрей положенного. В шестнадцать. Это два умножить на два и еще раз на два и еще раз на два. Матка сжималась в точку, Марте было больно, она барахталась вокруг своей матки.
Коротая время до кормления, я мучаю себя «Тропиком рака».
«Таня — огромный плод, рассыпающий вокруг свои семена, или, скажем, фрагмент Толстого, сцена в конюшне, где закапывают младенца».
Я жду кормления весь день напролет. Когда ждешь чего–то так сильно, в нужный момент оказываешься не готова.
«Таня — это лихорадка, стоки для мочи, кафе «Де ла Либерте», площадь Вогезов, яркие галстуки на бульваре Монпарнас, мрак уборных, сухой портвейн, сигареты «Абдулла», Патетическая соната, звукоусилители, вечера анекдотов, груди, подкрашенные сиеной, широкие подвязки, «который час?»…
Ждать кормления — партитура нашей действительности. Что такое сиена?
— Девчонки, который час?
Список замечаний разрастается. Приносят ребенка, а я без косынки. На кровати ручка, тетрадка, пеленка, расческа, зеркало, полотенце и «Тропик рака».
— Горинская, вы кормить не намерены?! — Медсестра разворачивается, унося мое чадо.
Вмиг упорядочиваю свой хаос и бегу следом, на ходу завязывая косынку:
— Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста… Вы не имеете права…
Жаль, что нет девушки Подшивалова. Я испугана не на шутку. Нахожу аргумент:
— У нас новорожденные за родителей не в ответе!
— Ладно уж, — снисходит медсестра и несет ребенка обратно. Я сую ей в карман шоколадку, она морщится: — Это до выписки ни к чему.
Любу больше не навещают — ни мальчики, ни отец. Ее не выписывают из–за отеков, с ребенком давно все в порядке. Люба мается. С каждым днем становится все нервозней. Беспокоится о зарплате. О сыновьях. Любиными проблемами охвачено уже все отделение. Выясняется, что у Любы есть родная сестра, что от нее неподалеку живет наша уборщица Нина — Нина готова передать насчет пеленок и одеяльца. Люба выписывается под расписку. На крайний случай, ей обещан казенный комплект.
Вечером накануне мы устраиваем прощальный пир. Включаем кипятильник, достаем пакеты из холодильника — Шум в коридоре после отбоя! — и, обернув полотенцем горячую банку, разливаем кипяток: Люба в казенный стакан, мы — в домашние кружки.
Читать дальше