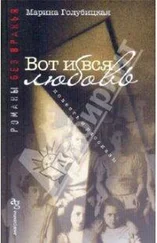— Нет–нет, письмо я не получил, — вежливо объяснил интеллигентный голос, — может быть, дело в почтовом ящике? Вы знаете, здесь сбивают замки, ящик у нас на веревочке, а почту воруют… — Мне подумалось: у академика есть внуки, Чук и Гек, они поссорились, Гек выбросил письмо в форточку, а сугробы здесь наверняка глубокие…
Прошло чуть более десяти лет. Сын академика первой взял Любу. Затем совсем молоденькую, из пригорода. Моя очередь подошла только к вечеру, но все дети родились в один день: мальчик у Любы, у нас с Гулей — девочки. Стыдно признаться: недоношенный Любин сын был похож на алкаша: серовато–бледный, с иссиня–черными волосами. Он сосал долго и жадно, и под конец вокруг посиневшего ротика проступал красный ободок. Мы с Гулей завистливо переглядывались: дети родились в один день, почти в одном весе и сроке, а наши не голодны. Спят. Не сосут. Нам оставалось сравнивать формы века.
Когда появились врачи и прочли по бумажке диагнозы, Люба взволновалась сильней всех:
— Нет, что это, а? С таких лет и уже нет здоровья? — У нее не было карты роженицы. — Беременностей? Не помню я, сколько. Сказала: не помню!.. Детям четырнадцать и тринадцать. Муж?.. Учреждение номер такое–то. Наказание отбывает.
Люба была грубовата, как сценический персонаж, и выглядела, как модель Отто Дикса: бесцветное жилистое тело, всклокоченные жидкие волосы, через весь живот красный шрам.
— Операция?
— Ножевое ранение.
Врачи ушли. Она похвастала:
— Пятнадцать абортов! Я карточки в двух консультациях завела, а то они не дают направление. Сказали, можно и до дыры проскоблить. Вот, хожу теперь то в одну, то в другую… Неграмотность, ясное дело. А счас ноги распухли, пойти не смогла. Да заболела. Воспаление легких, после гепатит. Пришлось рожать. Живем–то в подвале. Свекор парализованный на диване, я с сыновьями сплю на полу.
— Это которым четырнадцать и тринадцать?
— Сыновьям–то? Ну, да… А что?.. Слушай, я и не думала! Сплю с ними и не думаю… Сашке еще говорю: чего у тебя трусы–то мокрые, Сашка?.. Вот ведь дура, вот ведь не думала…
Я ковыляю по коридору в умывалку. У меня, в отличие от соседки, есть расческа. Добираюсь до зеркала. Лучше б не видеть… Ковыляю обратно и размышляю, при каких условиях моя жизнь могла бы сложиться также.
— Врач спрашивала, буду ли брать ребенка. Думала, может, правда не брать, а глянула на него: как не брать? — Люба целует сосунка в лобик: — Засранчик мой!.. Девочки, мы когда рожали, вчера? Меня, значит, вчера увезли? Потеря–я–я-ют! Позвонить бы отцу в автобазу. В автобазе передадут — отец там сторожем, в автобазе. А как я скажу им, где роддом? Я же в центре ничо не знаю… — Мы пытаемся объяснить, Люба, не слушая, подвывает: — Дак не поймут же, не поймут. Послать бы за ними…
Люба с Химмаша, Гуля — из пригорода, и там и там закрыли роддомы, иначе лежать бы мне здесь одной. Впрочем, с Гулей мы почти не общаемся: некогда. Процедуры, кормление, сцеживание… И потом — неудобно при Любе. Она нас придавила. Все свободное время мы допытываем ее.
— За что муж–то сидит?
— За убийство… Еще лет восемь ему: режим нарушает, вот псих! На суде сказал: «Я убивал и буду убивать таких гадов». Ну, соседа–то он убил не зря, с их бараком у нас завсегда вражда. Свекра нашего парализовало, а их дед пришел ссать на наши окна. Наш лежит, зенки выпучил: «Ы–ы–ы-ы». Сказать–то ничо уже не может, рукой пошевелить и то не может, а ихний ссыт… Ну, ничего: Мишка его сынка подколол. Потом удивился. Я, говорит, не думал, что нож так легко входит в человека. Я, говорит, воткнул и вот так еще повернул — три раза. Мишка и на суде это сказал.
В тот же день Любин отец и два сына кричат под окнами, бросают в стекла снежки.
— Яблочный сок мне принесли. Берите, девочки, угощайтесь, я кислятину–то не пью.
Расческа так и не появилась на ее тумбочке. Люба читает и перечитывает измятый лист. Вытирает слезы:
— Мишка, гад, не верит, что ребенок от него. Смотри, что пишет: «Родишь, я вернусь — убью выродка». Я же ездила к нему на свиданку. Это он еще осенью написал: «Родишь, я вернусь — убью выродка». Зараза! Ведь со школы же вместе. Я его с армии дождалась!
К кормлению мы остаемся в одних рубашках, фасон «лиф с зап а хом», чтоб легко вынималась грудь. Надеваем белые косынки. Три женщины в белом, на белом — это театр, почти балет. Авангардный балет: у Любы щиколотки толще голени, а я двигаюсь, словно паук на замедленной киносъемке. Зато Гуля выглядит, как мадонна — розовощекая, с широкими скулами. Медсестра приносит наши кулечки. Любин жадно хватает сосок. Наши, вяло почмокав, затихают. Гуля печалится, я утешаю:
Читать дальше