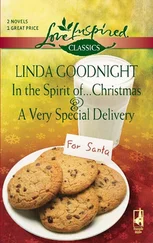— Давайте по Периферическому. Если это быстрей…
Лучше бы я ничего такого не произносил. Она восприняла мои слова конкретно; мне пришлось вцепиться в ручку над окном; я напрягся, не переставая твердить себе, что я мужчина и не к лицу мне просить миниатюрную женщину сбавить скорость.
Попробовал позвонить Сандре на мобильник: «Оставьте ваше сообщение». У меня сжалось сердце: предала, бросила, и она тоже. Я наговорил сообщение, резюмировал ситуацию. Они с Нанси изредка обменивались мэйлами — может, ей удастся что-нибудь узнать.
Таксистка обернулась ко мне, одновременно набирая скорость, а я еще крепче сжал ручку, с прискорбием сознавая бесполезность моих усилий.
— Девочка сбежала из дома? Сколько ей?
Малышка ее явно интересовала. Я предпочел бы молчаливого парижского шофера, который пассажиров своих в упор не видит. А тут пришлось отвечать; впрочем, я сохранил холодность:
— Тринадцать. Разругалась с матерью и ушла. Больше я пока сам ничего не знаю.
— Вы разошлись?
— Мы не сходились… то есть сходились, когда ее делали, но это делается быстро.
Она засмеялась, смех ни мужской, ни женский, а словно бы смех эльфа.
— Тринадцать лет — трудный возраст для девочки, — добавила она.
— Догадываюсь…
Нас обогнала гоночная машина с четырьмя отвязными юнцами; музон гремел у них на полную мощь, мчались, вероятно, со скоростью километров четыреста и скользили по Периферическому бульвару, как по автодрому.
За окном с вызывающим идиотизмом мелькали эмблемы разных фирм. Я снова вспомнил Фицджеральда: «Наши родители оставили нам искаженный мир».
Я злился на Нанси: думает только о себе, капризничает, мать изводит. Я еще не начал волноваться — ярость пересиливала.
Заметив, что меня не тянет на разговор, таксистка замолчала, как раз когда мне захотелось ее послушать. Я спросил:
— Чудно. Я уже ездил с вами, и вы уже говорили, что тринадцать лет — трудный возраст. У вас тут что-то личное?
Она протянула мне косячок, совсем маленький, незаметный. Я затянулся.
— Когда мне было тринадцать, родители надумали меня укротить. Мы жили уже здесь, во Франции, они чертовски хотели интегрироваться, а меня поместили в психушку. Чтоб мне голову в порядок привели. Они были достаточно продвинутыми и знали, что существует такая штука — психиатрия, но не смыслили в этом ни бум-бум. Полагаю, они рассчитывали, что мне вскроют череп и два-три нейрона поставят на место. Как запчасти в автомобиле. Номер не прошел. Психиатрия в Европе — это каменный век. Они пишут умные книги, а сами еще на том уровне, когда зубные врачи рвали зубы клещами… Только мозг — не зубы, его нельзя рвать не разобравшись, особенно клещами… Какую-то пользу я все-таки извлекла: повидала кучу сверстников. Получила пищу для размышлений…
Она охотно шла на разговор и, как это случается с иммигрантами, тянулась к правильной речи, умела построить фразу, подать ее с пафосом… Разве что гашиш мешал.
— Мозг в этом возрасте, — продолжила она, — очень хрупкий механизм. Все в становлении. Ты ничего не чувствуешь. Не чувствуешь боли, не ощущаешь повреждений. Может, тебе внутри уже все разбомбили, а ты думаешь, что оно идет путем. Сил-то избыток… А понимания — ноль. Первый встречный дубак нагонит тебе ботвы и западает в голову надолго.
Я был удивлен таким поворотом разговора. И огорчен одновременно: гнев постепенно уступал место боли, волнению, растерянности. Но тут, по крайней мере, я ступал на привычную почву.
До заставы Шамперре оставалось недалеко. Я спросил:
— А что, по-вашему, делать нам, взрослым?
— Не суетиться… Во всяком случае, я никогда не видела, чтобы отбившегося от рук подростка удавалось усмирить дисциплиной. Можно отсрочить кризис, но все подавленное силой рано или поздно всплывет.
— Остановите у светофора.
Она остановилась, обернулась и посмотрела на меня в упор:
— Подростки, я думаю, похожи на большинство взрослых: они не знают, чего хотят, не умеют угадать, что для них хорошо. А хорошо для них то же, что и для взрослых: нужно им каждый день повторять, что их любят и им доверяют.
— Трудно доверять соплячке, которая сбегает из дома, стоит сказать ей слово поперек.
— Вы не хуже моего понимаете: проблема не в этом. Сейчас она одна на улице, ночью: как бы ни было плохо вам и вашей дамочке, в опасности-то она. Под угрозой ее жизнь. И успокаивать надо ее, успокаивать и еще раз успокаивать. Пока она не уразумеет, что напрасно впала в истерику. В противном случае она будет считать, что правильно поступила. Если вы ее сдадите на попечение властям, ну, любым, вы ей только подтвердите, что она не зря вам не доверяла. Или вы ее сломаете.
Читать дальше
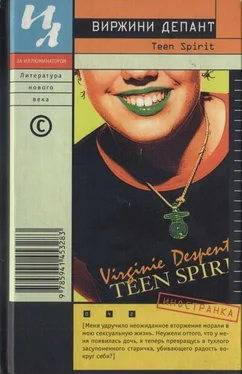





![Виржини Депант - Кинг-Конг-Теория [litres]](/books/394102/virzhini-depant-king-kong-teoriya-litres-thumb.webp)
![Виржини Гримальди - Время вновь зажигать звезды [litres]](/books/404019/virzhini-grimaldi-vremya-vnov-zazhigat-zvezdy-lit-thumb.webp)