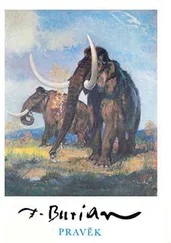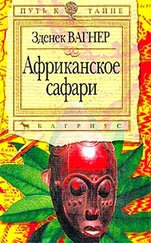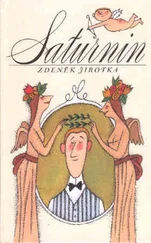— Раздобыл деньги? — спросил Колчава сиплым голосом.
— Пятьдесят пять марок кое-как нахватал в долг в счет будущих доходов, больше не имею, — ответил Штефанский.
Колчава, ни слова не говоря, стал укладывать снимок обратно в портфель.
— Мне без него зарез, — поляк приблизился на шаг, в его голосе было что-то угрожающее.
Спекулянт покачал головой, как бы укоряя себя, что затеял невыгодную коммерческую сделку, задумчиво уставился мутными глазами в лицо покупателя.
— Нет ли у тебя дамских ботинок, примерно тридцать девятого размера? — спросил Колчава.
Измученные глаза поляка невольно обратились к дочери.
— Она все равно лежит, — глухо шепнул ему владелец снимка.
Штефанский отрицательно покачал головой.
— Нет, не годится, она больная… — Он впился глазами в лицо жены, которая с нар напряженно наблюдала за ними. — Снимай башмаки, — мрачно сказал он ей после минутного раздумья.
Штефанская без единого слова возражения развязала шнурки. Капитана в комнате не было, а из присутствующих никто не отважился вмешаться. Не их это было дело, к тому же обезображенный человечек наводил какой-то мертвящий ужас.
— Немногого же они стоят, — проронил Колчава и отрицательно замотал головой. Он вдел руку в один из башмаков, еще сохранивших чужое тепло, повертел его в разные стороны, осмотрел подметки. — Если бы у тебя дочь не была больна, не взял бы я этих ботинок! Посмотри, каблуки стоптаны.
Но Штефанский уже вцепился в снимок обеими руками. Тот, кто вздумал бы отнять у него эту драгоценность, должен был бы прежде убить поляка. Спекулянт засунул башмаки в портфель. Они распирали его. Такая убогая поклажа явно не годилась для столь роскошного, сшитого из прекрасной свиной кожи портфеля. Колчава на прощание протянул руку покупателю.
— Ну-с, пусть ваша дочка скорее поправится.
Но Штефанский все еще крепко сжимал обеими руками бесценный для него снимок и потому не смог пожать протянутую руку. Колчава удалился, так и не попрощавшись.
Наступило воскресенье. Сильный южный ветер нагнал в открытый коридор барака массу холодного воздуха, подхваченного где-то на альпийских ледниках. Вместе с холодом ветер принес сюда из лагерной церкви молитвенные звуки фисгармонии.
Мамаша Штефанская забеспокоилась. Она подбежала к окну и стала с тоской смотреть в сторону часовни. Тонкий слой снега прикрыл дорогу, пожелтевшие стебли травы перед бараком, как щетина, торчали из под белого покрова. Штефанская неслышно вернулась обратно к нарам и подобрала ноги с грязными голыми лодыжками: пол был холодным. Женщина почувствовала укор совести: за все время пребывания в лагере она еще ни разу не пропускала обедни. Только сегодня…
Приметный чуб Ярды, который наперекор всем трудностям лагерного быта сохранял свою затейливую красу, появился в приоткрытых дверях.
— Ребята, сегодня после обедни будут раздавать масло, по полкилограммовой банке на брата!
— Беги, Гонзик, ты ведь аккуратно ходил в костел, — сказал Вацлав. — И ты, Бронек, дуй скорее, раз нет папы. Твоей сестре масло необходимо.
— Не пори горячку, Вашек, — сказал Ярда и поправил складку на своих узеньких брюках. — Не зря же мы живем в одной комнате с патером? Сегодня обедню служит Флориан, и масло нам обеспечено как пить дать!
Интерес к маслу оказался сильнее чувства гордости, и Вацлав пошел в костел. Звуки фисгармонии то становились сильнее с порывом ветра, то снова затихали, когда ветер ослабевал. Около храма скопилась толпа зевак. Намерение властей раздать масло узкому кругу людей возбудило слишком сильный интерес голодных людей.
— Идите домой, братья, служба уже началась, и входить нельзя, — размахивал руками перед входом в костел молодой священник в каракулевой шапке. От бокового входа приблизился другой, в роговых очках, сытое его лицо зарумянилось на морозе.
— Вернитесь в бараки, — призывал он по-немецки.
Все это еще больше возбуждало интерес, усиливало подозрения зевак.
— Вы, надеюсь, не будете препятствовать посещению костела? — возразил попам человек в жокейской кепке и в длиннющем пальто, рукава которого были подвернуты.
— Масло для всех, а не только для святош! — крикнул кто-то из толпы.
Из лагерных улочек подходили все новые люди. Но с противоположной стороны, от полицейского участка, подошел здоровенный детина — лагерный полицейский, обутый в огромные сапоги.
— Расходитесь, расходитесь! — стал он распоряжаться и размахивать широкими, как лопаты, руками. — Делать вам тут нечего, — добавил он на саксонском наречии с глуповатой служебной важностью.
Читать дальше
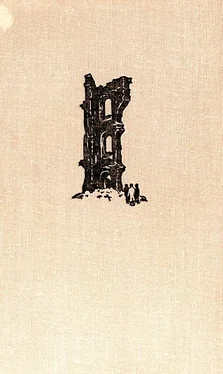

![Зденек Трейбал - Искусство вождения автомобиля [с иллюстрациями]](/books/12205/zdenek-trejbal-iskusstvo-vozhdeniya-avtomobilya-s-il-thumb.webp)