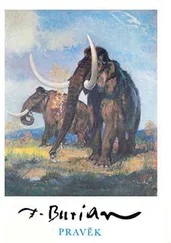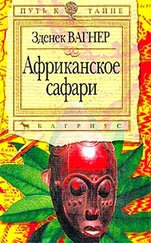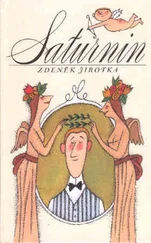Вспыльчивый Франц Губер был единственным настоящим другом Гонзика. В этот момент Гонзик ясно осознал, что весь интерес Губера к нему проистекал из моральных принципов этого человека, из его доброго отношения к людям, стремления помогать там, где нужна помощь.
Остывшая плита, кухня чисто убрана, приближается время обеда, но не видно никаких приготовлений к нему.
— Этого и следовало ожидать. — Глаза женщины устремлены куда-то в пространство. — Ведь он снова выступал на собрании и опять говорил, что не должно быть двух Германий, а лишь одна — единая демократическая Германия, уговаривал рабочих объединиться с теми, в Восточной зоне. Потом закусил удила и прошелся насчет самого канцлера. Подумайте, он — мусорщик в грязном фартуке…
Гонзик, сгорбившись на табуретке, смотрел на дверь в жилую комнату и почти физически ощущал, как там пусто.
— Что же теперь будет? — произнесла фрау Губер и развела руками. — Впрочем, я знаю, уже двадцать пять лет это знаю. Нищета. Потом, в один прекрасный день, он вернется и долго будет без места, пойдет разбирать городские руины, обивать цемент с кирпичей, будет копать каналы, сгружать уголь, надрываться на непосильной случайной поденщине… Либо упакуем свою рухлядь и уберемся отсюда бог весь куда… И хоть бы я видела по-прежнему, но мои глаза слабеют… Рубашки! — сказала она с раздражением, увидев, что Гонзик не сразу понял, и сердито хлопнула ладонью по горке белья, уложенной на стуле. — Всю жизнь перед моими глазами мелькает иголка. Не могли же мы быть сыты от его постоянного пребывания в тюрьме. Другие женщины танцевали, а я садилась шить мужские рубашки; другие ездили по воскресеньям из Мюнхена к Штарнбергскому озеру, а я все шила и шила рубахи. А Франц, если не сидел за решеткой, все выступал и выступал на рабочих собраниях. Мои подруги говорили, что я удачно вышла замуж. У Франца, дескать, хорошо варит голова. Когда я его узнала, ему было двадцать пять лет. В те времена он действительно кое-что значил: был редактором рабочей газеты! Но с тех пор мы катились все ниже и ниже. В лавке обо мне шушукались, пальцами указывали, называли анархисткой. В войну я получала только половину карточек… И сына мы могли бы сохранить, если б иначе воспитали его. Я… я эти его профсоюзы проклинаю! — Она вдруг погрозила кулаком в сторону двери.
Но тут же рука ее опустилась. Женщина виновато посмотрела на Гонзика. А он сидел, до боли сжав руки коленями, и часто моргал. Фрау Губер встала, взяла со стола ящичек со швейными принадлежностями и поставила его на ободранный старенький буфет. Затем она поправила шпильку, которая плохо держалась в ее редких волосах, подошла к окну и стала упорно смотреть в галерею, где решительно ничего не было, кроме наполовину зашитого досками окна, выходящего во двор. Долго стояла она так. На ее шее учащенно пульсировала жилка.
— Вообще он стойкий человек, но у него сильный ревматизм, а в каждой тюрьме сыро и холодно. Не знаю, позволят ли мне передать ему мазь… — Она говорила как бы сама с собой, стоя лицом к слепому окну, и без всякой надобности расправляла складки на занавеске. — И опять он вернется исхудавший и измученный, ох-хо-хо!.. А что, собственно, вам от него нужно? — Она устало повернулась к Гонзику. Правой ладонью она все время разглаживала фартук на колене.
— Он обещал устроить меня на работу, — еле слышно произнес Гонзик. — Прислал мне записку, чтобы я сегодня пришел, что дело это почти решенное.
Она схватила кастрюльку, налила воды и бросила туда несколько картошек так, что вода брызнула во все стороны.
— Похоже на него: всегда заботится о других. Для себя, для семьи у него не хватает времени…
Гонзик брел по шумной улице Нюрнберга. Он был взволнован. За стеклом широкой витрины экскурсионной конторы — большая географическая карта; голубой демаркационной линией отделена Восточная Германия, граница на Одере и Нейсе очерчена толстой красной полосой. Маленькие модели самолетов «люфтганз», подвешенные на алых ленточках, сторонятся отчетливого ромба Чехии. Вон там, немного западнее пограничного кружочка с надписью «Брюнн», находится исходный пункт проклятого паломничества Гонзика, начало его погони за приключениями, за свободой. Ну и как, обрел он эту свободу?
«Теперь наконец мы получим возможность говорить то, что думаем, и действовать так, как велит нам совесть», — сказал после перехода границы Вацлав, когда полиция везла их в «мерседесе» в Регенсбург.
Читать дальше
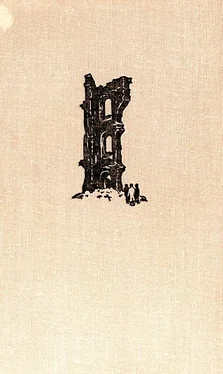

![Зденек Трейбал - Искусство вождения автомобиля [с иллюстрациями]](/books/12205/zdenek-trejbal-iskusstvo-vozhdeniya-avtomobilya-s-il-thumb.webp)