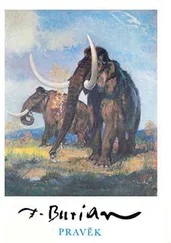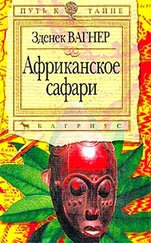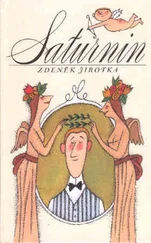Что же, неужели был прав Капитан, сказав однажды, что он, Маркус, не жил настоящей жизнью, а лишь глядел на нее со стороны, будучи отгороженным стеклянной стеной?
Коллега Конвей сидел рядом с ним, но профессор прекрасно угадывал его огорчение, вызванное неожиданным визитом. Как он, Маркус, дошел до такой жизни, что стал в тягость людям? Кто он? Выбитый из колеи, затасканный, одинокий индивидуум, не нужный ничему и никому, кроме самого себя. А этого, кажется, маловато для джунглей волчьего мира, где даже целые стаи более слабых волков погибают!
— Моя жена умерла пятнадцать лет тому назад, — вдруг сказал Маркус без всякой связи с предыдущим. — С дочерью мы были большими друзьями, даже свои любовные тайны она поверяла мне. Она вышла замуж за инженера с задатками ученого. Этот человек после февраля вступил в коммунистическую партию. Образовалась страшная трещина в наших семейных отношениях: я перестал с ним разговаривать. Бланка, бедняжка, металась между мужем и мной. Думаю, что в конце концов она восприняла мой побег за границу как избавление. Но все же я знаю, что она временами плачет, глядя на мой пустой стул за столом. В день моего рождения Бланка делала бисквитный торт с кремом и ухитрялась доставать венгерское красное вино, хотя это было очень трудно. Знаю, что и теперь она тревожится, есть ли у меня теплое белье и не усилилась ли моя астма.
Конвей молча смотрел на его тяжелые веки и мешки под глазами.
— А внучке Бланка говорит: «Дедушка путешествует за границей, но скоро вернется».
Профессор следил за ласточками, стремительно опускавшимися к водной глади. Омочив белую грудку, они вновь возносились в небесную синь.
— Каждый человек в эмиграции, хочет он этого или нет, носит в себе свой родной край, свою покинутую любовь. Самые необычайные красоты чужбины, даже счастье, обретенное вдалеке, не могут выкорчевать корни, которыми ты навсегда привязан к родной земле. — Маркус посмотрел на соседа большими задумчивыми глазами. В них была глубокая печаль. — Методы, которыми меня здесь опорочили, — это позор для всей чехословацкой эмиграции, а также и для тех, кто ей помогает. Я уже, вероятно, слишком стар, чтобы оправиться от полученного удара.
Великие люди способны были постоять за свою правду при любых обстоятельствах, даже и на эшафоте. Я не великий человек, меня и не казнят, меня устранили без этой пышности. Но Бланка ждет напрасно; с таким проигрышем вернуться нельзя! Только бедное сердце отца возвратится тайно, против моей воли… Там, дома, оно тихо доживет свой век где-нибудь в укромном уголочке, ибо оно принадлежит только отчизне, и родина — сущность моего сердца, да, сердца, но не разума…
Вверх по течению пронеслась моторная лодка. Тянувшийся за ней треугольник волн растекался к берегам. Привязанная лодка профессора Конвея запрыгала, шлепая по воде то кормой, то носом.
— Пойдемте выпьем чаю. — Конвей положил руку на плечо профессора Маркуса.
Спираль лестницы, знакомый коридор. Гонзик нажал кнопку звонка. В дверях появилась фрау Губер.
Гонзик сразу почуял недоброе, что-то случилось: чужое, враждебное лицо, усталое и изнеможенное. Воспаленные глаза.
— Вы пришли убедиться, действительно ли он сидит?
Гонзик, не понимая, смотрит в строгое, холодное лицо.
— Вы о чем?..
— На той неделе его посадили.
Истертый порог качнулся у него под ногами. Гонзик схватился за наличник.
— Ради бога, вы думаете, что это я… Что я способен… За все хорошее, что он хотел для меня сделать!.. — Но вдруг ему открылся весь ужас его положения.
Он может иметь самые лучшие намерения, но на лбу у него выжжено клеймо лагеря Валка, и все честные люди смотрят на него, как на существо опасное, морально нечистоплотное. Ему хотелось кричать, оправдываться, обидное подозрение этой женщины жгло его раскаленным железом, но не менее мучительной была и другая мысль: ведь сотни мерзавцев в Валке, не колеблясь, совершат любую подлость, лишь бы заработать несколько марок. И Гонзик беспомощно сжал кулаки.
— Пани… Я никогда ничего плохого не сделал… Кроме того, что на родине оставил старушку мать…
Она заколебалась. Плохой человек редко произносит имя своей матери. Подозрительность постепенно исчезала с ее лица, женщина шире приоткрыла дверь. Он вошел, не дожидаясь приглашения, и сел на край табуретки.
Она села напротив. В усталом жесте, которым она сложила руки на коленях, проявилась вся сила ее горя.
Читать дальше
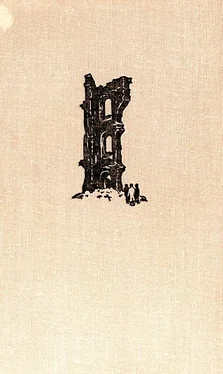

![Зденек Трейбал - Искусство вождения автомобиля [с иллюстрациями]](/books/12205/zdenek-trejbal-iskusstvo-vozhdeniya-avtomobilya-s-il-thumb.webp)