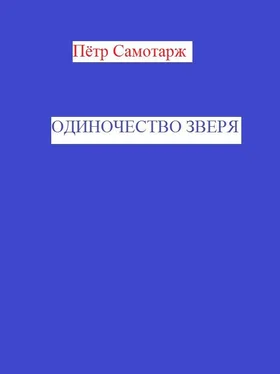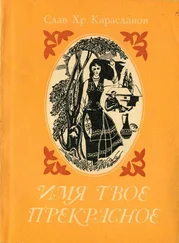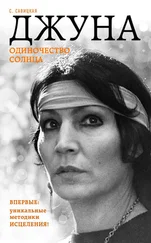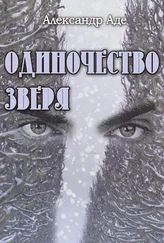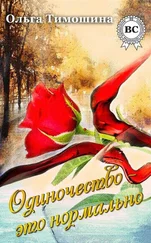— Анечка, честно говоря, для меня твоё крещение — тоже новость. У меня до сих пор даже мысли не возникало, — высказалась Елена Николаевна. — Ты и платок не носишь.
— Не ношу. Впрочем, брюки и короткие юбки тоже, как вы могли заметить. В наше время женщина летом в платке многими воспринимается именно как верующая, и ношение его можно воспринять как демонстрацию. Я, собственно, нисколько не стесняюсь, но и выпячивать свои убеждения не намерена — суть ведь не в платке, а в образе жизни. Я и на каждую встречную церковь крестным знамением себя не осеняю, и перед едой в ресторане не молюсь, и офис у меня иконами не увешан.
— А дома перед едой молишься?
— Молюсь.
— Живёшь теперь без греха? И не скучно? — поинтересовался Конопляник.
— Не скучно. И я не живу без греха. Даже монахини грешат, такова человеческая природа. Только я хочу уточнить важную подробность. При слове «грех» в голову нерелигиозного человека первыми приходят прелюбодеяние, воровство или убийство, но понятие греха на самом деле шире. Если меня толкнул какой-то невежа, а я на него рассердилась, хотя и не выказала своих эмоций внешне, я согрешила. Самое главное и самое трудное — как раз замечать за собой подобные проступки, понимать их нехристианскую сущность и искренне раскаиваться. Не перед священником на исповеди, а перед самим собой, когда никто из людей тебя не видит и не понимает твоих переживаний.
— Я, конечно, человек сугубо советский, — пошла в атаку Елена Николаевна, — но, думаю, причина моего неприятия церкви всё же в другом. Очень часто заявления церковнослужителей разного ранга по телевизору меня удивляют и даже раздражают. Я ведь не одержима бесами и вовсе не сгораю от желания смертного греха, чем же объяснить мою реакцию?
— Видимо, отличием вашего мировосприятия от убеждений священнослужителей. Они ведь и не обязаны совпадать. Более того, я сама иногда внутренне не соглашаюсь с публичными заявлениями даже иерархов. Православное учение не требует бессловесной покорности пастырям — вопросы можно задавать, постулат непогрешимости не признаётся ни за кем, в том числе за патриархом. А вы можете привести примеры?
— Легко. Меня всегда удивляла практика пожертвования на строительство церквей, например. Как её понимать — если старый греховодник на старости лет построит на свои ворованные деньги храм, перед ним открываются ворота рая?
— Нет, конечно. Бог взяток не берёт. Для прощения грехов человек должен их увидеть, осознать и искренне раскаяться. Не заявить о своём раскаянии вслух, а испытать его в действительности.
— И как же священник поймёт, кается грешник искренне или нет?
— Никак. Прощает не священник, а Господь. Один построит десять церквей, но всё равно не спасётся, другой не пожертвует церкви ни копейки, но войдёт в рай, если не спал ночами, страдал, наказывал себя и стремился загладить свои вины перед обиженными им людьми.
— Тогда ещё вопрос: много раз приходилось слышать, в том числе от священнослужителей, истории о родителях, которых Бог наказал через их детей. Каждый раз меня оторопь берёт: дети-то причём? Даже Сталин говорил, пускай для проформы: дети за отцов не отвечают. Выходит, православные видят проблему иначе?
— Я тоже слышала такое, и не согласна с такой позицией. Особенно чудовищны рассказы, например, о дочери, ставшей проституткой, потому что её родители согрешили, и Господь их таким образом покарал. Разумеется, каждый человек свободен, он не марионетка и не орудие наказания. Тем более, Бог никого не ввергает своей волей в грех — как только в голову такое может придти.
— Хорошо, а откуда у православных такое неприятие деятельного добра?
— Что вы имеете в виду?
— Католические святые делали реальные добрые дела для самых простых людей — спасали их от голода, холода и болезней, а православные — в основном подвергали себя аскезе и молились.
— Запрета на добрые дела в православии нет, если вы об этом.
— Хорошо, запрета нет, так в чём же дело?
— Одних только добрых дел недостаточно, если за ними стоит, например, гордыня.
— Какая гордыня, что ты имеешь в виду?
— Если спасаешь человека от голода или болезни и потому сам себя считаешь святым, то тем самым впадаешь в грех. Оптинские и афонские старцы, канонизированные после смерти, при жизни сокрушались по поводу своей греховности и даже отказывались принимать духовных чад, поскольку не считали себя чем-нибудь лучше их.
— Считать себя безгрешным — греховно?
Читать дальше