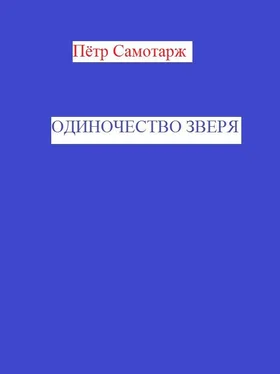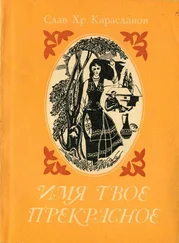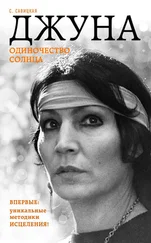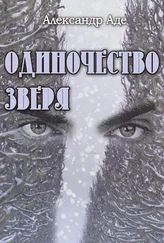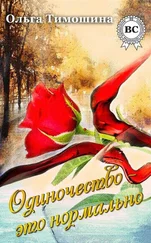— А как вы объясняете неприятие либеральных идей обществом?
— Я с вами категорически не согласен, Наташа. Тотального отторжения либерализма у нас нет. Люди не против частной собственности в принципе, они возмущены её неравномерным распределением, и Россия здесь не является исключением. В глазах Западной Европы наши показатели социального расслоения представляются абсолютно неприемлемыми, хотя американцев они не слишком поразили бы. Но мы, во-первых, по менталитету ближе к Европе, и, во-вторых, низкие доходы у нас обеспечивают только уровень потребления, который и в Америке тоже считается недопустимым. Официальная пропаганда валит на правых ответственность за возникновение этих диспропорций в девяностые, но старательно замалчивает нежелание властей заниматься демонополизацией. Тем более, если не все, то подавляющее большинство, поддерживают гражданские и политические свободы и требуют гарантий своей частной собственности, которая после девяностых появилась тоже у большинства — такого у нас давненько не наблюдалось.
— Но Покровского ведь действительно поддерживает это самое большинство?
— Действительно, но не в той степени, как это пытается представить власть. Миллионам известны имена хороших знакомых Покровского, которые чудесным образом получили доступ ко всем лакомым кускам нашей экономики, и Авдонин в лагере для них вовсе не демонстрирует отделения власти от капитала. Есть ещё одна важная особенность политической ситуации: то же самое пресловутое большинство хочет безвозмездной национализации всех сырьевых монополий и осуждает Покровского за половинчатость сделанных им шагов. Рано или поздно он должен выбрать: возвращает он советскую социально-экономическую систему, или нет. Могу предположить, сейчас он этого не хочет, как и бюрократия в целом. В советской системе власти у неё будет, может, и больше, но материальной выгоды, по сравнению с нынешней — практически никакой. Собственно, в советской системе и страна долго не протянет, но их это вряд ли волнует. Вы ведь не станете утверждать, что люди испытывают непреходящее чувство восторга от своего материального положения?
— Не стану.
— Естественно, и будете правы. Покровский старательно дистанцируется от собственных министров — даже сейчас, будучи вроде как премьером. Создаёт образ отца родного, который в непрестанной заботе о народе шерстит чиновников и заставляет их работать. На внешней политике тоже выезжает — как бы бросает вызов империалистическому Западу, как бы восстанавливает попранный в девяностые международный авторитет России. В общем, эксплуатирует в своих интересах фантомные боли имперского сознания.
— Откуда же они берутся, эти фантомные боли?
— Самое обычное дело, все сгинувшие империи прошли через этап психологической ломки. Веками людям прививали порочное представление об авторитете государства, прежде всего, как о неотъемлемом свойстве военной силы, а столь древние стереотипы вы одним махом не разрушите.
— А Саранцев может изменить ситуацию?
— Ничего он не может. Он своих министров провести не может без согласия Покровского. Обменная фигура, пешка, фантом, чучело — выбирайте навскидку, все определения окажутся верными. Получит в очередной раз команду и вёрнет Покровскому президентское кресло, даже рот побоится открыть — для того и поставлен. Между прочим, Наташа, хотите — верьте, хотите — нет, но я с ним разговаривал.
— С кем?
— С Саранцевым. В прошлом году он решил продемонстрировать народу свой невероятный демократизм и пригласил к себе в Кремль представителей несистемной оппозиции. Много и красиво говорил, даже снизошёл до ответов на вопросы, и я ему свой тоже задал.
— Какой?
— Да всё о своём, наболевшем — о телевидении.
Ладнов хорошо запомнил тот день и свой обмен репликами с президентом. Ему тогда сообщили о приглашении за пару недель, но принимать какие-либо меры к своему костюму он категорически отказался, и явился в Сенатский дворец в джинсах, футболке, куртке в стиле «милитари» и с твёрдым намерением проверить степень готовности главы государства к диалогу, а не к вещанию с трибуны. Отношение к Саранцеву у него в ту пору было сложное — с одной стороны, тот определённо вышел из кадровой обоймы генерала, с другой — он являлся счастливым обладателем интеллигентного лица и, насколько можно было судить по официальной информации, уклонистом от службы в армии. То есть, напрямую таких сведений о Саранцеве не сообщалось, но он был физически здоров, а в армии не служил, хотя в его время выпускники вузов должны были служить два года офицерами после военной кафедры, а без военной кафедры — отслужить полтора года на общих основаниях по призыву и в последние шесть месяцев пройти офицерские сборы. Говорилось что-то об аспирантуре, о работе на стратегических объектах с бронью, но всё равно, Ладнов видел здесь почву и для разговора об отказе от всеобщего призыва, и в принципе о существовании несправедливых законов.
Читать дальше